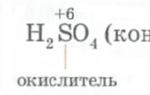Карабчевский, николай платонович. V
Российской империи Карабчевский Николай Платонович.
Родился будущий в военном поселке под Николаевом Херсонской губернии 30 ноября 1851 года в семье украинских помещиков.
В 1874 году Карабчевский Н.П. окончил юридический факультет Петербургского университета, однако чиновничья карьера для него была закрыта. На первых курсах университета молодой студент был уличен в студенческих «беспорядках» и в связи с чем, попал список неугодных власти лиц.
В этом же году Карабчевский Н.П. стал помощником присяжного поверенного Ольхина А.А., а затем Бровиковского А.Л. и Утина Е.И. Под началом популярных в те года адвокатов он проявил себя на юридическом поприще.
Выступая в судебных процессах Карабчевский Н.П. проявил себя как талантливый оратор. При этом он один из первых понял, что нельзя полагаться лишь на силу защитной речи в суде, поскольку мнение присяжных слагалось еще до начала прений сторон. По этому он большое внимание уделял допросу свидетелей. О таком умении Карабчевского Н.П. зналисудьи и прокуроры, а потому пытались заранее отвести его вопросы, но он решительно, хотя и в рамках своих правомочностей, отражал такие попытки.
Его ораторская манера была своеобразной и привлекательной, подобно Плевако П.А. и Кони А.Ф. он не писал свои судебные речи, а всецело полагался на импровизацию, пытаясь почувствовать публику.
Часто Карабчевскому Н.П. закидывали, что в его речах «больше голоса, чем слов», встречаются рассуждения «без всякой системы».
Приведу концовку речи за пересмотр дела Александра Тальма, осужденного в 1895 году на 15 лет каторги по обвинению в убийстве. Дело пересматривалось в 1901 году: «Гг. сенаторы, из всех ужасов, доступных нашему воображению, самый большой ужас – быть заживо погребенным. Этот ужас здесь налицо…Тальма похоронен, но он жив. Он стучится в крышку своего гроба, ее надо открыть!». Разумеется, живая речь Карабчевского Н.П. воздействовала куда сильнее. Дело пересмотрели и в том же году Тальма освободили.
Защитная речь Карабчевского Н.П. по политическому делу Сазонова была даже переведена на французский язык и помещена как Российских, так и в Европейских изданиях за 1905 год.
Народную любовь Карабческий Н.П. заслужил не тол талантом, но и подвижническим трудом, мало кто из адвокатов Росси мог с ним сравниться по числу процессов (уголовных и политических), в которых он принял участие. Сам он гордился тем, что ни одного из его подзащитных не было приговорено к смертной казни.
За свою практику Карабчевский Н.П. добился множества оправдательных приговоров по почти безнадежным делам. К примеру, обвиненные в убийстве Ольги Палме в 1895 году братьев Скитских; дело Мултанского 1896 года, дело Бейлиса М.Т. 1913 года и много других.
Активно занимался Карабчевский Н.П. и общественной деятельностью. Он был одним из учредителей газеты «Право» (1898-1917), благотворительного фонда для молодых адвокатов (1904), одним из создателей Всероссийского союза адвокатов (1905), председателем Петербургского совета присяжных поверенных (1913), председателем комиссии по расследованию германских зверств во время Первой мировой войны (1915).
Октябрьскую революцию 1917 года Карабчевский Н.П. не принял и эмигрировал сначала в Скандинавские страны, затем в Италию. Остаток своих лет провел не удел на чужбине. Умерон 6 декабря в Риме, где и похоронен.
После себя Карабчевский Н.П. оставил огромное творческое наследие, куда входят мемуары, судебные речи, рассказы и повести.
Николай Платонович Карабчевский (1851–1925)
«НЕСРАВНЕННЫЙ ТЕМПЕРАМЕНТ»
Карабчевский беспощадно бился за своего клиента, защищал его «до последней капли крови» и пускал в ход все средства, которые не были запрещены законом. Свидетелей допрашивал напористо и азартно. Лгущих свидетелей обвинения своими хлесткими вопросами он припирал к стене и буквально вырывал у них правду.
Николай Платонович Карабчевский родился 29 ноября 1851 года в военном поселении под городом Николаевом Херсонской губернии. Отец его, Платон Михайлович, в это время командовал уланским его высочества герцога Нассауского полком. По отцовской линии род Карабчевского турецкого происхождения. Еще во времена Екатерины II, при взятии Очакова, был пленен мальчик-турчонок, родители которого погибли. Какой-то генерал царской армии отвез мальчика в Петербург и определил в военный корпус. Фамилию ему дали произвольно, от слова «кара», что значит «черный». С тех пор все предки Карабчевского, как правило, служили в армии, чаще всего в кавалерии.
Образованием Николая Карабчевского занимались сначала дома. К детям были приглашены лучшие учителя, а для Николая даже выписали из Марселя француженку, поэтому французским языком он владел великолепно. Несколько хуже знал английский. В двенадцатилетнем возрасте мальчик поступил в только что открытую в Николаеве гимназию особого типа: она была реальная, но с латинским языком. Окончил ее Николай Платонович с серебряной медалью. В 1869 году он поступил на естественный факультет Санкт-Петербургского университета. Учеба увлекала одаренного юношу, но естественные науки несколько ограничивали его пылкую натуру, и тогда он заинтересовался юриспруденцией, стал посещать лекции известных профессоров - Н. С. Таганцева, П. Г. Редкина и других. Не чуждался и общественной жизни, активно участвовал в «студенческих беспорядках», за что университетским судом был даже приговорен к трехнедельному аресту.
В 1870 году Карабчевский окончательно расстался с естественным факультетом университета и перевелся на юридический, который блестяще окончил спустя четыре года. В эти годы у Николая Платоновича была заветная мечта - стать писателем, точнее, драматургом, очень уж неудержимо его влекло к театру. С юных лет он выступал на любительской сцене, где ему приходилось играть даже главные роли. Он сыграл Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума», Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Его перу принадлежит драма «Жертва брака», но она вышла довольно слабой, и попытка напечатать ее на страницах «Отечественных записок» потерпела неудачу.
Молодой человек оказался на распутье. Перед ним остро встал вопрос - чем заниматься дальше. Сам Карабчевский так пишет об этом: «Для меня было ясно, что на государственную службу я не поступлю. А на адвокатуру во время своего студенчества я глядел свысока. Она мне представлялась всегда не чуждой некоторого суетливого сутяжничества, и я считал ее мало подходящей для моей натуры, более склонной, как мне казалось тогда, к мечтательному созерцанию окружающей жизни, нежели к энергичной, практической деятельности». Но после долгих размышлений Карабчевский все же решил записаться в присяжные поверенные, хотя облик российского «ходатая» и «стряпчего» его, по собственному признанию, не пленял. В декабре 1874 года он предложил свои услуги адвокату А. Ольхину, с которым был знаком в студенческие годы. Тот сразу же согласился взять Николая Платоновича помощником и помог ему написать прошение в совет присяжных поверенных.
Вскоре Карабчевский выступил в суде по первому своему делу - он защищал крестьянского парня из Тверской губернии Семена Гаврилова, обвинявшегося в краже со взломом. Это небольшое дело с самой незатейливой фабулой запомнилось ему на всю жизнь. Семнадцатилетний Семен Гаврилов, приехав в Петербург, за три рубля снял угол у квартирной хозяйки. Занимался он сапожным ремеслом, выручал в месяц до двенадцати рублей, жил скромно и тихо. Однако вдруг повадился в публичный дом, стал пьянствовать, задолжал за квартиру и, вконец промотавшись, совершил кражу, похитив из сундука другого постояльца носильные вещи и рублей пять денег, а после этого пропал. Потерпевший сам отыскал его и привел к хозяйке, но Семен стал от всего отказываться, хотя на нем узнали краденую рубашку. Вызвали полицию, но и перед следователем Гаврилов в краже не повинился.
Когда Карабчевский взялся за защиту Гаврилова, первым делом он отправился в Литовский замок, где содержался арестованный, и с большим трудом убедил его во всем повиниться, рассчитывая, что присяжные заседатели проявят к нему снисхождение. После этого начал готовиться к процессу. «До слушания дела оставалось еще пять дней, - рассказывал впоследствии Карабчевский, - мне же казалось, что это ужасно мало. Сколько хотелось сообразить, перечесть, передумать! Я зачастил в публичную библиотеку, перелистал всю юридическую литературу о малолетних преступниках, прочитал по тому же предмету кое-что из области медицинской… Дня через два-три речь, помимо моей воли, была готова в моей голове. Кульминационным в ней моментом, помимо молодости и увлечения первой непреоборимой страстью тревожного периода юности, явилось именно указание на вполне свободное и невынужденное сознание подсудимого. Раньше он всюду запирался». До процесса оставалось два дня, и тут произошло событие, буквально выбившее у Карабчевского почву из- под ног. Дело в том, что рядом с ним проживал некий дворянин, окончивший Александровский лицей, не состоявший на службе, а живший на небольшой доход со своего имения, при этом склонный к философствованию. По словам Карабчевского, именно с этим дворянином и произошла история, ставшая внешней фабулой знаменитого романа Л. Н. Толстого «Воскресение». Карабчевский поведал ему, что должен выступать в суде и что очень рассчитывает на оправдание своего подзащитного, для чего и уговорил его во всем чистосердечно признаться.
Дворянин выдал Карабчевскому гневную тираду. Суть ее заключалась в том, что адвокат сам приближает своего клиента к тюрьме, облегчив присяжным заседателям возможность обвинить его, что у большинства присяжных «рабья подоплека» и они никогда не оправдают сознавшегося, а вот когда преступник запирается, то они, боясь взять грех на душу, отпускают его. Встревоженный этим разговором, Карабчевский наутро помчался в Литовский замок, встретился с Гавриловым и, смущаясь, дал понять, что даже признание своей вины не является гарантией в том, что присяжные оправдают подсудимого. Выслушав защитника, Гаврилов спокойно ответил: «Что врать-то? Мы в сознании…» Настал день суда. «Я был жалок, когда направлялся на свою первую защиту с портфелем, для чего-то нагруженным и объемистым уложением, и уставом уголовного судопроизводства, но с совершенно пустой головой», - вспоминал Карабчевский.
Дело шло первым. Доставили подсудимого. Когда Гаврилова ввели в зал, то он вдруг сказал Карабчевскому: «Ваше благородие, мы не в сознании!» «Я начал ощущать, как медленно раздвигается подо мною пол, как я проваливаюсь в преисподнюю вместе с моей речью», - говорил впоследствии Карабчевский. После формальностей с присяжными заседателями и свидетелями зачитали обвинительный акт. Карабчевский понимал, что приближается его «погибель». Он был настолько взволнован, что с трудом воспринимал происходящее. Наконец до его слуха донеслись слова председателя, обращенные к подсудимому: «Ну что же, вы признаете себя виновным?» Только теперь Карабчевский сообразил, что председатель задает этот вопрос его подзащитному в третий раз. И здесь, в напряженной тишине, Гаврилов выдавил из себя: «Мой грех!» - и разрыдался, как ребенок. Когда он немного успокоился, то во всем повинился. После этого суд и присяжные отказались даже от допроса свидетелей. Карабчевский писал: «На всех произвели сильное впечатление искренность и неожиданность сознания подсудимого». Присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт. Более того, когда все разошлись, старшина присяжных положил в руку Карабчевскому несколько смятых кредитных бумажек, сказав, что это присяжные собрали для подсудимого на первое время.
Довольно быстро Карабчевский стал приобретать популярность. Лишь только был оглашен оправдательный приговор Гаврилову, тут же к адвокату обратился один из участвовавших в этом деле присяжных заседателей с просьбой принять на себя защиту интересов его матери, которую пристав грозился «потащить» к мировому судье - она якобы нарушила строительный устав, соорудив при ремонте дома деревянную лестницу вместо каменной.
Карабчевский выступал в процессах как по уголовным, так и по политическим делам. В конце 1877 - начале 1878 года Николай Платонович принимал участие в знаменитом процессе «ста девяноста трех». Здесь он оказался в окружении целого созвездия блестящих присяжных поверенных. Среди защитников были П. А. Александров, Г. В. Бардовский, Л. Л. Боровиковский, В. Н. Герард, М. Ф. Громницкий, Л. Я. Пассовер, П. А. Потехин, В. Д. Спасович, Д. В. Стасов, доктор права Н. С. Таганцев и другие. И только трое помощников присяжных поверенных удостоились чести быть в этом списке: Н. П. Карабчевский, В. М. Бобрищев-Пушкин и Грацианский.
Николай Платонович защищал одну из главных обвиняемых, Е. К. Брешко-Брешковскую, которую впоследствии стали называть «бабушкой русской революции» (она умерла в Праге на девяносто первом году жизни), а также А. В. Андрееву и В. П. Рогачеву. Хотя первая из них все же была приговорена к пяти годам каторги, речь Карабчевского произвела сильное впечатление. Двое других его подзащитных были оправданы. Спустя сорок лет он вспоминал: «Мы сидели на процессе в течение многих месяцев, побросав другие дела, - и какая проявилась высота понимания своих задач.
Это был „политический“ процесс. Но не подумайте, что все ограничивалось либеральными выступлениями и партийной лирикой - нет, проявлено было изумительное, почти пророческое понимание общественного, бытового и исторического значения процесса, в речах чуялось бесстрашное углубление в самую толщу почвы, на которой процесс развился. Были чудные речи… Я помню наши овации по адресу речей Александрова, Герарда, Бардовского и многих других, речи которых были для нас целым откровением, этими воспоминаниями я хочу сказать, что на протяжении менее десятка лет был уже подготовлен целый кадр защитников для самых сложных, самых ответственных и боевых в то время процессов».
Находясь после Октябрьской революции в эмиграции, Карабчевский выпустил два тома воспоминаний «Что глаза мои видели». В них, описывая процесс «ста девяноста трех», он отмечает, что среди подсудимых было несколько выдающихся личностей во главе с И. Н. Мышкиным. «Своими речами на суде он „зажигал сердца“ молодежи, выступая убежденным до фанатизма революционером-пропагандистом, - писал Карабчевский. - Я сам ночи не спал после его страстных выступлений. Порою слова его казались мне непреложным откровением. Ярко помню кульминационный момент процесса, когда Мышкин исчерпывающе высказал свое знаменитое „кредо“: „Всеобщее народное восстание“. Оно потрясло и захватило всю аудиторию».
На процессе «ста девяноста трех» произошел такой эпизод. Когда во время речи Мышкина жандармы бросились зажимать ему рот, адвокаты Бардовский, Стасов, Утин и некоторые другие обступили его, требуя записать в протокол, что жандармы позволяют себе бить подсудимых. Карабчевский же, по собственному признанию, «потеряв голову, угрожающе бросился на жандармского офицера с графином в руках».
В ходе процесса и после его окончания Карабчевский много раз встречался со своей подзащитной Брешко-Брешковской, которая прониклась искренней симпатией и доверием к молодому адвокату и даже склонна была вовлечь его в революционную борьбу. На это Николай Платонович сказал: «Не кровью и насилием возрождается мир… Для меня „террорист“ и „палач“ одинаково отвратительны». Тогда революционерка, крепко пожав Карабчевскому руку, сказала на прощание: «Бог с вами, оставайтесь праведником… предоставьте грешникам спасать мир. Я иду в каторгу… а вы на волю, к радостям жизни. Спасибо вам за все!»
Впоследствии Карабчевский выступал на политическом процессе «семнадцати» и некоторых других подобных процессах. Оценивая их с точки зрения общественного к ним отношения, уже после революции он писал, что в те годы «интеллигенция благоразумно-выжидательно „тайно аплодировала“, а обыватели и народ пока только ротозейно недоумевали».
В 1879 году Карабчевский стал полноправным адвокатом, вступив в сословие присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты. Он часто выступал по самым громким процессам того времени. Слава его как блестящего защитника возрастала изо дня в день, началась же она после блестящей речи по так называемому интендантскому делу, которое слушалось в Особом присутствии Петербургского военно-окружного суда с 18 февраля по 17 апреля 1882 года. В этом «процессе-монстре», как называл его Карабчевский, защита была представлена такими известными адвокатами, как В. И. Жуковский, А. И. Урусов, С. П. Марголин, и некоторыми другими. Суду были преданы шестнадцать интендантов и подрядчиков во главе с действительным статским советником В. П. Макшеевым, бывшим окружным интендантом Рущукского отряда действующей армии в турецкой кампании 1877 года. Все они обвинялись в злоупотреблениях при поставках продовольствия в армию. Поскольку в числе подсудимых было лицо в генеральском чине (чин действительного статского советника приравнивался к генеральскому), то и Особое присутствие состояло исключительно из генералов. Председательствовал член Главного военного суда В. К. Слуцкий, обвинение поддерживал военный прокурор барон Остен-Сакен и его помощники Рыльский и Иллюстров.
Еще задолго до процесса общественное мнение было настроено против главного обвиняемого Макшеева. В печати на него появились резкие нападки, обсуждалась не только его прошлая деятельность, но и особенности личности. Все считали, что едва ли найдется адвокат, согласный защищать человека, вина которого «столь вопиюща». Чтобы противостоять одностороннему освещению в печати обстоятельств дела, Макшеев стал издавать свою газету «Эхо». Но это, по выражению Карабчевского, «подлило только масла в огонь». «Можно смело утверждать, - пишет он, - что защита Макшеева прошла под дружный аккомпанемент неодобрительного шипения и свиста всей нашей ежедневной печати». Интригу процессу придавало еще и то, что Рущукским отрядом командовал наследник цесаревич, в 1881 году вступивший на российский трон под именем Александр III, а начальником штаба у него был генерал-майор И. С. Ванновский, ставший к началу рассмотрения дела военным министром.
Свою защитительную речь Карабчевский произносил шесть часов с двумя небольшими перерывами. Досконально изучив многотомное дело (достаточно сказать, что один обвинительный акт составлял четыреста страниц), Николай Платонович шаг за шагом разрушал обвинение, воздвигнутое против его подзащитного. Конечно, добиться полного оправдания по такому делу было невозможно. По приговору суда Макшеева сослали на жительство в Томск, а через несколько лет помиловали.
В ноябре-декабре 1884 года в Санкт-Петербургском окружном суде Карабчевский совместно с адвокатом В. Ф. Леонтьевым защищал подсудимого И. И. Мироновича, обвинявшегося в убийстве еврейской девочки Сары Беккер. Обвинял подсудимого товарищ прокурора окружного суда И. Ф. Дыновский. Это дело вызвало в свое время много шума в столице, поэтому Карабчевский начал свою речь так: «Господа присяжные заседатели! Страшная и многоголовая гидра - предубеждение, и с нею-то прежде всего приходится столкнуться в этом злополучном деле. Злополучном с первого судебного шага, злополучном на всем дальнейшем протяжении процесса. Преступление зверское, кровавое, совершенное почти над ребенком, в центре столицы на фешенебельном Невском, всех, разумеется, потрясло, всех взволновало. Этого было уже достаточно, чтобы заставить немного потерять голову, даже тех, кому в подобных случаях именно следовало бы призвать все свое хладнокровие».
Далее, постепенно разбивая все доводы обвинения, он подводил к мысли о невиновности Мироновича. А свою речь закончил так: «Нам всем бы хотелось, чтобы ларчик похитрее открывался. А он открывается просто: Миронович не виновен. Начните с этого и кончите этим: оправдайте его! Вы не удалитесь от истины». Однако убедить присяжных заседателей Николай Платонович не смог. Они вынесли вердикт: «Виновен», на основании которого суд приговорил Мироновича к каторжным работам на четыре года. На этот приговор Карабчевский принес кассационную жалобу, рассмотренную Правительствующим сенатом в феврале 1885 года. В отношении Мироновича приговор был отменен, и дело направлено на вторичное разбирательство.
2 октября 1885 года Санкт-Петербургский окружной суд с новым составом присяжных заседателей вторично приступил к рассмотрению этого дела. Процесс длился девять дней. Обвинение поддерживал товарищ прокурора окружного суда В. М. Бобрищев-Пушкин. На этот раз Карабчевский противостоял ему в паре с другим замечательным адвокатом С. А. Андреевским. Николай Платонович сразу же сказал, что он, будучи глубоко убежден в невиновности Мироновича, не покидал обвиняемого с самого возбуждения дела и считает своей обязанностью защищать правое, честное дело до конца, хотя теперь его помощь почти уже не нужна. Причину предания Мироновича суду и первого осуждения, сказал он, надо видеть в неудовлетворительности предварительного и судебного следствия, в допущенных ошибках, пристрастности и односторонности со стороны лиц, производивших дело. «Было бы странно, если бы веденное ложным путем следствие вывело на настоящую дорогу, - все толкало судей сбиться с пути, запутаться в лабиринте, созданном искусной рукой». А заключил свою речь словами: «Для меня, господа присяжные заседатели, Миронович давно уже перестал быть сыщиком, ростовщиком, взяточником; для меня остается только больной несчастный старик, поруганный, загнанный, застигнутый неслыханным горем; это заживо погребенный, - от вас зависит дать ему вздохнуть». Затем выступил присяжный поверенный С. А. Андреевский, который произнес в защиту Мироновича одну из лучших своих речей. На этот раз И. И. Миронович был оправдан. Правительствующий сенат оставил без последствий кассационный протест прокурора.
Незадолго до вторичного рассмотрения дела Мироновича Карабчевский защищал в Петербургском военно-окружном суде поручика артиллерии В. М. Имшенецкого, обвинявшегося в тяжком преступлении - преднамеренном утоплении своей жены, находившейся на четвертом месяце беременности. Это было не менее громкое и сенсационное дело. 31 мая 1885 года в одиннадцатом часу вечера на реке Малой Невке, между Петровским мостом и садом «Бавария», с лодки, в которой находились Имшенецкий и его жена Мария Ивановна, урожденная Серебрякова, послышался мужской голос, призывавший на помощь. Перевозчик-яличник Ф. Иванов тотчас поспешил туда и увидел Имшенецкого, плавающего рядом с пустой лодкой, а в саженях двух далее - дамскую шляпку. Иванов принял офицера в свой ялик и высадил на берег, где тот и рассказал, что жена упала в воду, переходя с руля на весла. Предпринятые энергичные поиски жены не увенчались успехом. Лишь через десять дней тело всплыло. Никаких признаков внешнего насилия на теле погибшей не нашли. Всех занимал вопрос, что это было: несчастный случай или убийство?
Следствие обвинило поручика Имшенецкого в том, что он, женившись в феврале 1884 года на дочери купца Серебрякова, Марии Ивановне, вскоре после брака склонил жену сначала на выдачу ему полной доверенности на управление ее домом, а спустя месяц после свадьбы и на составление духовного завещания с отказом в его пользу принадлежащего ей дома и всего движимого имущества, а затем во время прогулки по реке «действиями своими вызвал падение ее в воду, вследствие чего она утонула». Было установлено, что Имшенецкий незадолго до злополучной лодочной прогулки заставлял жену принять меры «к изгнанию плода». На суде обвинение поддерживал помощник военного прокурора Болдырев. В качестве поверенного гражданского истца, отца погибшей, выступал адвокат В. М. Бобрищев-Пушкин.
Карабчевский в своей речи со страстью доказывал, что подсудимый - не тиран-преступник, «перешагнувший спокойно через труп», а всего лишь «жалкая, беспомощная игрушка печального сцепления грустных обстоятельств» и к этой последней роли как нельзя более подходит его «безвольная и дряблая натура». И далее: «Итак, господа судьи, на основании тщательного, кропотливого исследования самого факта падения в воду покойной я вправе утверждать, что убийство не доказано, не доказан и злой умысел со стороны Имшенецкого на основании исследования его личности и тех внутренних условий его семейной жизни, которые ставились ему в улику». А вот концовка этой речи: «Я не позволю себе навязывать вам своего внутреннего убеждения: пусть оно остается там, где ему быть надлежит, - не на языке только, а в глубине моего сердца, в глубине моей совести. Одну лишь уверенность после восьми дней, проведенных перед лицом вашим, господа судьи, позволю я себе громко высказать: я убежден, что приговор ваш будет и глубоко продуман, и глубоко справедлив».
После шестичасового совещания суд вынес приговор. Имшенецкий был признан не виновным в предумышленном убийстве своей жены, но признан виновным в неосторожности, последствием которой была смерть Марии Ивановны. Суд приговорил его к аресту на гауптвахте на три недели и церковному покаянию по усмотрению его духовного начальства.
В сентябре - ноябре 1894 года Карабчевский защищал в Одесском окружном суде капитана парохода «Владимир» капитана 2-го ранга К. К. Криуна. Его вместе с капитаном итальянского судна «Колумбия» Пеше и некоторыми другими должностными лицами обвинили в том, что из-за нарушения законов безопасности мореплавания произошло столкновение судов, обернувшееся гибелью семидесяти шести человек. Карабчевский сумел доказать, что капитан Криун является «более несчастным, нежели виновным человеком». Хотя суд признал его вину, но осудил всего на четыре месяца тюрьмы и церковное покаяние. Однако менее чем через месяц определением суда на основании всемилостивейшего Манифеста Криун был от наказания освобожден.
В феврале 1895 года в Санкт-Петербургском окружном суде Карабчевский защищал Ольгу Палем, обвинявшуюся в убийстве студента Данилова. После его трехчасовой речи присяжные заседатели оправдали подсудимую. Однако через несколько дней по указанию министра юстиции Н. В. Муравьева прокуратура опротестовала этот приговор. Правительствующий сенат оперативно рассмотрел протест. В Сенате у Карабчевского были достойные противники - дело докладывал сенатор Н. С. Таганцев, а заключение давал обер-прокурор А. Ф. Кони. После довольно продолжительного совещания приговор суда был отменен. В тот же день О. Палем снова была взята под стражу, а 18 августа 1896 года признана виновной в непреднамеренном убийстве и приговорена к десятимесячному тюремному заключению.
В последующие годы в активе Карабчевского были не менее сенсационные процессы. Популярность его была так велика, что одно только участие в процессе делало сам процесс громким. «Ни один русский адвокат не завоевал такой славы, - отмечал С. В. Карачевцев, - не превратил так своего имени в нарицательное, не поднял на такую высоту блеска и славы звания защитника».
Карабчевский защищал братьев Скитских, обвинявшихся в убийстве, - после нескольких процессов они были оправданы, и мултанских вотяков - этих крестьян из села Старый Мултан дважды приговаривали к каторге по обвинению в ритуальном убийстве, но после вступления в дело Карабчевского оправдали. В известном процессе Бейлиса, прогремевшем на всю Россию, Карабчевский тоже во многом способствовал оправданию обвиняемого. Участвовал он в делах революционеров-террористов Г. А. Гершуни и Е. С. Сазонова, а также многих других.
Хорошо знавший Карабчевского С. В. Карачевцев писал: «Природа даровала Николаю Платоновичу особую способность строить речь красиво и сильно, всей душой отдаваться интересам своего подзащитного, а глубокая эрудиция обогатила эту Речь образами поэзии и искрами философской мысли».
Успех в самых трудных процессах сопутствовал Карабчевскому еще и потому, что он блестяще вел судебное следствие. Здесь он был и юристом, и психологом, и художником, и аналитиком. Помогал ему и «несравненный темперамент». Современники отмечали, что его реплики и замечания во время следствия - «настоящий ураганный огонь, перед которым не мог устоять ни свидетель, ни прокурор, ни даже председатель». «Карабчевский брал не красотой, а страшной неслыханной силой, - заметил как-то С. В. Карачевцев. - Он загорался от прикосновения к делу, как к живому существу».
В 1895 году Карабчевского избрали в состав Совета присяжных поверенных Санкт-Петербургской судебной палаты. В 1913 году он стал его председателем и оставался на этом посту до Октябрьской революции. «Трезвый проницательный ум, беспощадная логика мысли, громадная эрудиция и блестящее красноречие, - вот что отличало Карабчевского всю жизнь и выдвинуло его в ряды наших лучших общественных деятелей, которыми вправе гордиться Россия. Его громадное общественное влияние сказалось и на всем сословии адвокатуры в долголетнюю бытность его председателем Совета петербургских присяжных поверенных», - писал С. В. Караченцев.
Николай Платонович не оставлял и увлечения своей юности - литературного творчества. Сотрудничал в газете «Неделя» и других, писал публицистические и юридические заметки. С середины 1880-х годов публиковал юридические статьи и очерки в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство» и прочих. В 1901 году Карабчевский выпустил сборник своих речей. В предисловии он писал: «Вся деятельность судебного оратора - деятельность боевая. Это - вечный турнир перед возвышенной и недосягаемой „дамой с повязкой на глазах“. Она слышит и считает удары, которые наносят друг другу противники, угадывает и каким орудием они наносятся… Разве не естественно желать сохранить хоть „на память“ случайно уцелевшие образцы того оружия, которым приходилось сражаться всю жизнь».
В 1902 году вышла книга Карабчевского «Около правосудия», переизданная в 1908 году. Он редактировал также журнал «Юрист», посвященный суду и адвокатам. Написал ряд прозаических и поэтических произведений: роман «Господин Арсков», «Стихотворения в прозе», рассказы, очерки, эссе, а также мемуары, вышедшие в 1921 году.
В творчестве Николая Платоновича С. В. Карачевцев подметил интересную особенность. Многие известные адвокаты занимались литературным трудом (С. А. Андреевский, К. К. Арсеньев, В. Д. Спасович и др.), но в своем творчестве они как бы переставали быть адвокатами, а становились критиками, публицистами, поэтами. Карабчевский же и здесь оставался только адвокатом. В романе «Господин Арсков» он вывел двух присяжных поверенных - себя и Андреевского. Даже в Благородном собрании, в любительском спектакле, он играл роль человека, невинно осужденного на каторгу.
После Февральской революции, которую Карабчевский встретил настороженно, А. Ф. Керенский, получивший должность министра юстиции и генерал-прокурора, предложил Николаю Платоновичу должность сенатора уголовного кассационного департамента Правительствующего сената, но тот отказался от такой «чести».
Вот как передает этот диалог С. В. Карачевцев: «- Николай Платонович, - сказал порывисто Керенский, - хотите быть сенатором уголовного кассационного департамента? Я имею в виду назначить несколько сенаторов из числа присяжных поверенных…
Нет, Александр Федорович, разрешите мне остаться тем, что я есть, - адвокатом, - поспешил ответить Николай Платонович. - Я еще пригожусь в качестве защитника…
Кому? - с улыбкой спросил Керенский. - Николаю Романову?
О, его я охотно буду защищать, если вы затеете его судить!
Керенский откинулся на спинку кресла, на секунду призадумался и, проведя указательным пальцем левой руки по шее, сделал им энергичный жест вверх, и все поняли, что это намек на повешение.
Только не это, - дотронулся до его плеча Николай Платонович, - этого мы вам не простим!
Так и не соблазнил Керенский Карабчевского. Только впоследствии Николай Платонович согласился на место председателя в комиссии по расследованию немецких зверств, но ведь это было всего лишь составление обвинительных актов».
Советскую власть Карабчевский не признал и эмигрировал.
Николай Платонович был женат на Ольге Андреевне, родной сестре народовольца С. А. Никонова.
В блистательном ряду таких адвокатов, как В.Д. Спасович и Д.В. Ста-сов, Ф.Н. Плевако и А.И. Урусов, СА Андреевский и П.А. Александров, В.Н. Герард и В.И. Танеев, Л.А. Куперник и АЯ. Пассовер, Н.К. Муравьев и А.С. Зарудный, П.Н. Малянтович и О.О. Грузенберг, опыт которых мог бы служить образцом для нашей современной адвокатуры, одно из пер-вых мест принадлежит Николаю Платоновичу Карабчевскому. Впервые он заявил о себе еще в 1877 г. на процессе «193-х», в 80-е годы был уже знаменит, но и в начале XX в., когда выдающиеся адвокаты «первого при-зыва» большей частью отступили на второй план или ушли со сцены и вообще из жизни, Карабчевский оставался звездою первой величины, а последние 10 лет существования присяжной адвокатуры (после того как в 1907 г. устранился от дел и в 1908 г. умер Плевако) был самым автори-тетным и популярным адвокатом России.
Имя Карабчевского, которое когда-то почти 40 лет кряду гремело по всей России, сегодня знакомо только специалистам — больше юристам, чем историкам. Монографий о нем (как, впрочем, и о других знамени-тостях адвокатуры, кроме Плевако, — даже о «короле» ее Спасовиче) до сих пор нет, хотя он впечатляюще представлен во всех очерках по истории русского судебного красноречия , в словаре-альбоме П.К. Мартьянова «Цвет нашей интеллигенции» (3-е изд. СПб., 1890,1891, 1893) и даже в учебном пособии академика-лингвиста В.В. Виноградова , а в 1983 г. появился и первый специальный очерк о нем — квалифициро-ванный, но очень краткий, основанный на узком круге только печатных материалов . Между тем жизнь и судьба Карабчевского отражены в разнообразных источниках. Это в первую очередь — опубликованные речи, статьи, очерки, воспоминания самого Николая Платоновича , его друзей, коллег, современников , а также его обширный (1329 ед. хр.) архивный фонд , который содержит ценнейшие материалы, включая написанную неизвестным автором и правленую самим Карабчевским рукопись его биографии до 1890-х годов, правда с большим (Л. 15—52) пропуском.
Путь Карабчевского в адвокатуре от новичка до ярчайшей знамени-тости был крут и прям, хотя он и стал адвокатом чуть ли не через силу, по стечению неблагоприятных для него обстоятельств.
Родился он 30 ноября 1851 г. в Николаеве, на Украине. Мать его — Любовь Петровна Богданович — была потомственной украинской по-мещицей, а вот отец — Платон Михайлович, дворянин, полковник, ко-мандир уланского полка («образования домашнего», «арифметику знает», как засвидетельствовано в его формулярном списке), — имел экзотическое происхождение. «Во время завоевания Новороссийского края, — читаем в рукописной биографии Карабчевского, — каким-то русским полком был подобран турецкий мальчик, определенный затем в кадетский корпус и дослужившийся в военных чинах до полковника. Фамилия ему была дана от слова «Кара» — «Черный» . Этот турчонок, Михаил Карапчи, который принял с крещением фамилию Карабчевский и стал, в чине полковника, крымским полицмейстером , — дед Н.П. Карабчевского.
Николаю Платоновичу было всего полтора года, когда умер его отец. До 12-летнего возраста будущий адвокат воспитывался дома гувернанткой-француженкой и бонной-англичанкой, что помогло ему уже в дет-стве овладеть французским и, несколько хуже, английским языками. В 1863 г. он был принят в Николаевскую гимназию особого типа, «реаль-ную, но с латинским языком», окончил ее с серебряной медалью и в 1869 г. стал студентом Петербургского университета. Насколько далек был тогда юный Карабчевский от адвокатских и вообще юридических грез, видно из того, что он поступил не на юридический, а на естествен-ный факультет. Будучи по характеру любознательным и активным, он ходил на лекции к профессорам разных факультетов, причем наиболь-шее впечатление произвели на него именно юристы — П.Г. Редкин, Н.С. Таганцев, А.Д Градовский, И.Е. Андреевский. В результате Караб-чевский еще на первом курсе задумал было перейти в Медико-хирур-гическую академию, но передумал, едва заглянув в анатомический те-атр, а со второго курса все-таки перешел на юридический факультет университета.
Впрочем, сделал он это уже после того, как на первом курсе принял участие в студенческих «беспорядках», отбыл трехнедельный арест и тем самым резко осложнил и ограничил себе выбор профессии. Дело в том, что, блестяще окончив (весной 1874 г.) юридический факультет столичною университета, Карабчевский узнал: государственная, чинов-ничья карьера юриста перед ним закрыта. «Незадолго перед тем, — вспоминал он, — в университете было вывешено объявление, что лица, желающие поступить на службу по Министерству юстиции, должны иметь от университета особое удостоверение о своей благонадежнос-ти» . Карабчевский как участник студенческих «беспорядков» такого удостоверения получить не мог. Правда, его неблагонадежность не ме-шала ему вступить в адвокатуру как в учреждение самоуправляющее-ся, но к ней он все время студенчества и даже по окончании универси-тета относился недоверчиво из-за ее «суетного сутяжничества» и считал ее «малоподходящей» для себя.
Обдумав возможные варианты своей судьбы, Карабчевский решил стать... писателем. Он сочинил и отправил не далее чем в «Отечествен-ные записки» (журнал Н.А. Некрасова и М.Е. Салтыкова-Щедрина) пятиактную «весьма жестокую» драму «Жертва брака». «Больше ме-сяца, стыдясь и волнуясь, — с юмором вспоминал Николай Плато-нович много лет спустя, — я каждый понедельник вползал как-то бо-ком, словно крадучись, в редакцию «высокоуважаемого» журнала за ответом. Иногда — о, счастье! — от «самого» Некрасова или же от «самого» Салтыкова я выслушивал отрывистые и даже как бы не-сколько грубоватые, похожие на окрики, ответы (наполнявшие, од-нако, мое сердце лучезарной надеждой), что, мол, рукопись еще не прочитана и надо прийти еще через две недели» . Кончилось тем, что рукопись вернули автору за ненадобностью, и такой конец при стольких надеждах так отрезвляюще подействовал на Карабчевского, что он «тут же порешил» раз навсегда отказаться от карьеры писате-ля. Только теперь он пришел к выводу: «Не остается ничего, кроме адвокатуры» .
В декабре 1874 г. Карабчевский записался помощником присяж-ного поверенного к А.А. Ольхину, от него перешел в качестве помощ-ника к А.Л. Боровиковскому и затем к Е.И. Утину. Под патронатом этих трех популярных адвокатов он быстро показал себя их достой-ным партнером. Кстати, именно Евгений Утин — первоклассный юрист с демократическими убеждениями (родной брат основателя и руководителя Русской секции I Интернационала Н.И. Утина) — пер-вым оценил Карабчевского «как выдающегося из молодежи уголовно-го защитника и стал поручать ему некоторые дела» . На процессе «193-х», где был представлен почти весь цвет российской адвокатуры, Карабчевский, пока еще помощник присяжного поверенного, высту-пал уже рука об руку с такими классиками судебного красноречия и политической защиты, как В.Д. Спасович, П.А. Александров, Д.В. Ста-сов, В.Н. Герард, А.Я. Пассовер, Е.И. Утин и др. К тому времени Нико-лай Платонович вполне освоился в адвокатуре, нашел в ней свое при-звание и отныне превыше всего ставил долг и честь присяжного поверенного .
Заглянем вперед и отметим здесь, что в марте 1917 г. Карабчевский отказался даже от кресла сенатора уголовного кассационного депар-тамента, которое предложил ему бывший тогда министром юстиции
А.Ф. Керенский «Нет, Александр Федорович, разрешите мне остаться тем, кто я есть, — адвокатом»
Личность Н.П. Карабчевского импонирует прежде всею разносто-ронностью интересов и дарований. Даже современным ценителям он «кажется почти невероятно многогранным» . В этом преувеличении есть большая доля правды: творческое наследие Карабчевского включа-ет в себя стихи, художественную прозу и критику, переводы, судебные очерки и речи, публицистику, мемуары. Николай Платонович не стал профессиональным литератором, но присущая ему с юных лет тяга к художественному творчеству находила выход в разных жанрах, кото-рыми он занимался между дел, на досуге, причем искусно. Такой авто-ритет, как В.В. Виноградов, признал в нем «писателя с несомненным литературным талантом» . Это доказывают изданные в разное время с 1885 г. и собранные воедино в 1905 г. две его повести (лирическая — «Приподнятая завеса» и драматическая — «Гастроль»), нашумевший автобиографический роман «Господин Арсков», в котором на строгий суд была «выставлена вся петербургская адвокатура» ; ряд поэтических опытов — например стихотворение «Раздумье», строки которого поны-не звучат злободневно:
Мир утомлен и жаждет обновленья.
Душа полна таинственных тревог,
Все испытав — и веру, и сомненье.
Ей нужен вновь или кумир, иль Бог .
С писателями Карабчевский имел обширные знакомства — впро-чем, не как литератор, а именно как адвокат. Он дружил с В.Г. Коро-ленко, был близко знаком с А.П. Чеховым , А.И. Куприным, Т.Л. Щеп- киной-Куперник, встречался с Л.Н. Толстым. Летом 1901 г. Николай Платонович впервые побывал у Толстого в Ясной Поляне и подарил ему книгу своих только что изданных «Речей» .
Адвокатские дела связывали Карабчевского и с научным миром. Так, в 1912 г. академик И.П. Павлов выбрал его своим представителем на суде чести против ученого-психиатра профессора К., статью которого о некой дозе алкоголя, безвредной для человека даже при ежедневном приеме, Павлов назвал «шарлатанской» . Но более всего (разумеется, кроме суда и адвокатуры) Николай Платонович был связан с миром искусств. В этом мире он пользовался известностью уже не столько адвоката (хотя и здесь решал какие-то юридические дела — к приме-ру, в 1915 г. поддержал иск Л.В. Собинова к дирекции Императорских театров ), сколько поклонника и покровителя муз.
Художественное начало в личности Карабчевского неудержимо влекло его ко всем музам сразу, а его богатство позволяло ему меценат-ствовать с равным удовольствием и размахом. Молодым он сам участво-вал в любительских спектаклях вместе с К.А. Варламовым и А.И. Южи-ным — по-видимому, успешно, если учесть, что знаменитой П.А. Стре- петовой для ее бенефиса в «Макбете» Шекспира предложили выбрать на роль Макбета одного из премьеров труппы Александринского теат-ра В.П. Далматова или... Н.П. Карабчевского. О том, как отреагировала Стрепетова на это предложение, читаем в воспоминаниях театроведа Б.В. Варнеке: «Их обоих она бесповоротно забраковала — Карабчевский будет только богатых клиенток подманивать, а Вася (Далматов. — И. Т.) хоть и Шекспира любит, но почему-то для трагических героев берет краски с тамбовского брандмейстера, и от них на версту фиксатуром да помадой воняет» .
Карабчевский был в дружеских отношениях с В.Ф. Комиссаржев- ской и О.Л. Книппер-Чеховой, К.А. Варламовым и Л.В. Собиновым . Правда, незадолго до 1917 г. Николай Платонович и Леонид Виталье-вич, по всей видимости, раздружились. Если в 1915 г. Собинов писал Карабчевскому: «Дорогой Николай Платонович» и подписывался: «Лю-бящий тебя Леонид Собинов» , то 1917-м годом датирована его желч-ная эпиграмма:
Н.П. КАРАБЧЕВСКОМУ
(по поводу его кандидатуры в посланники во Францию)
Кто под арест,
Кто в Красный Крест,
А кто — посол.
И ты не прочь В Париж, хоть вскочь,
Зато величайший комедийный актер России, «царь русского сме-ха» Константин Александрович Варламов (сын композитора А.Е. Вар-ламова) был неизменно и тесно привязан к Карабчевскому. Он мог прямо со сцены Александринки, по ходу спектакля, обратиться к «ми-лому другу», сидевшему, как обычно, в первом ряду партера: «А, Ни-колай Платонович! Как вам понравилась наша пьеса? Не знаю, как вы, а я чувствую себя в ней как дома! Да, не забудьте, милый, ко мне на пирог во вторник!»
На актерских вечеринках (капустниках) у Варламова Карабчевский познакомился с оперными звездами, супругами Николаем Николаеви-чем и Медеей Ивановной Фигнер, и с великой Марией Гавриловной Са-виной .
Когда Савина умерла, Карабчевский, бывший тогда председателем Петроградского совета присяжных поверенных, направил труппе Александринского театра телеграмму за своей подписью от имени все-го адвокатского сословия с выражением соболезнования и «глубокой скорби» .
В домашнем театре самого Карабчевского по субботам собира-лись для репетиций и благотворительных концертов все артистические знаменитости Петербурга . Здесь ставил свои новаторские спектакли В.Э. Мейерхольд . У Карабчевского «собирались артисты всех профес-сий, — вспоминала актриса и педагог проф. Е.И. Тиме. — Приглашение в этот дом подчеркивало степень популярности молодого выдвигающе-гося артиста» .
Все это помогало и карьере, и репутации Карабчевского, но при всей своей разносторонности, по натуре и призванию он все-таки был юрист, судебный оратор, «адвокат от пяток до маковки» . В нем почти идеаль-но сочетались самые выигрышные для адвоката качества. Высокий, стат-ный, импозантный, «с внешностью римского патриция» , красивый, «Аполлон, предмет оваций», как шутливо рекомендовали его коллеги , Карабчевский отличался правовой эрудицией , даром слова и логическо-го мышления, находчивостью, силой характера, темпераментом бойца. Специалисты особо выделяли его «стремительность, всесокрушающую энергию нападения, всегда открытого и прямого, убежденного в своей правоте» .
Подобно двум другим корифеям отечественной адвокатуры — П.А. Александрову и А.И. Урусову, — Карабчевский держался правила: «Вся деятельность судебного оратора — деятельность боевая» . Он мог заявить прямо на суде, что в его лице защита «пришла бороться с обви-нением» . Главная его сила и заключалась в умении опровергнуть даже, казалось бы, неоспоримую аргументацию противника.
Карабчевский чуть ли не первым из адвокатов понял, что нельзя по-лагаться только на эффект защитительной речи, ибо мнение суда — в особенности присяжных заседателей — слагается еще до начала пре-ний сторон, а поэтому «выявлял свой взгляд на спорные пункты дела еще при допросе свидетелей» . Допрашивать свидетелей он умел как никто. Вот характерный фрагмент из судебного отчета по делу Саввы Мамонтова в 1900 г. Идет допрос свидетелей. Только что задали вопро-сы Ф.Н. Плевако и В.А. Маклаков. «К свидетелю обращается Карабчев-ский. В зале водворяется тишина. Этот защитник, как видно из ряда громких процессов, где он участвовал, необыкновенно умело ставит вопросы свидетелям, причем ответ на них сам по себе уже не важен.
Самый вопрос своей формой, постановкой оказывается всегда, как справедливо заметил один из корреспондентов, чем-то «вроде ярлыка, точно и ясно определяющею факт», которым заинтересована защита» .
Судьи и прокуроры, зная об этом умении Карабчевского, пытались заранее отвести или, по крайней мере, нейтрализовать его вопросы, но он решительно, хотя и в рамках своей правомочности, отражал такие попытки. Один из клиентов Плевако рассказывал: «Вон Карабчевскому председатель суда сказал: «Господин защитник, потрудитесь не задавать таких вопросов!» А он встал и ответил: «Я, господин председатель, буду задавать всякие вопросы, которые, по моей совести и убеждению, слу-жат к выяснению истины. Затем я и здесь, на суде». А то прокурор — они это любят, «чтобы произвести впечатление», — говорит присяж-ным: «Прошу вас, господа присяжные заседатели, обратить внимание на это обстоятельство!» А Карабчевский и встань: «А я, господа присяж-ные заседатели, прошу вас обратить внимание на все обстоятельства дела!»
Ораторская манера Карабчевского была своеобразной и привлека-тельной. Б.Б. Глинский писал о нем, что, по сравнению с адвокатом-по- этом С.А. Андреевским, он «лишен беллетристической литературности, того поэтического колорита, которым блещет его коллега, но зато в его речах больше эрудиции, знакомства с правовыми нормами и широты социальной постановки вопросов» . Карабчевский говорил легко и эф-фектно, но «это не была только красивая форма, гладкая закругленная речь, струя быстро текущих слов . В речи Карабчевского было творче-ство — не прежнее, вымученное в тиши кабинета, это было творчество непосредственной мысли. Когда Карабчевский говорил, вы чувствовали, что лаборатория его, духовная и душевная, работает перед вашими гла-зами, и вы увлекались не столько красотой результата работы, сколько мощью этой работы» . Хорошо сказал о нем С.В. Карачевцев: «Он пред-ставлял собой красоту силы» .
Николай Платонович никогда не принадлежал к «пишущим» ора-торам, каковыми были, например, В.Д. Спасович или С.А. Андреевский. Подобно Ф.Н. Плевако, П.А. Александрову, А.Ф. Кони, он не писал за-ранее тексты своих речей. «Судебное следствие иногда переворачивает все вверх дном, — объяснял он это Льву Толстому. — Да и противно по-вторять заученное. По крайней мере, мне это не дается» . В статье об одном из лучших судебных ораторов России АЛ. Пассовере, который тоже не был «пишущим», Карабчевский так обрисовал его подготовку к защитительной речи, безусловно имея при этом в виду и себя самого: «Задолго до произнесения речи он всю ее подробно, до мельчайших деталей, не только обдумал, но и просмаковал в голове. Она не написа-на, т. е. ничто не записано словами на бумаге, однако ноты, партитура, не только готовы, но и разыграны. Это гораздо лучший прием для упражнения ораторской памяти, нежели простое записывание речи и затем механическое воспроизведение ее наизусть. При таком способе помнишь не слова, которые могут только стеснять настроение и ока-заться даже балластом, а путь своей мысли, помнишь этапы и труд-ности пути, инстинктивно нащупываешь привычной рукой заранее приготовленное оружие, которое должно послужить. При этом остает-ся еще полная свобода, полная возможность отдаться минуте возбуж-дения, находчивости и вдохновения» .
Критики Карабчевского находили, что в его красноречии «больше голоса, чем слов», «сила пафоса» вредит «ясности стиля», встречаются рассуждения «без всякой системы», поэтому на бумаге речи его «не звучат» . Эти упреки не совсем справедливы. Речи Карабчевского хо-рошо «звучат» и на бумаге: в них есть и пластичность («Русло проло-жено — следствие течет и журчит, убаюкивая и усыпляя»), и образ-ность («До первоисточника молвы труднее докопаться, нежели до центра зелми»), и экспрессия. Вот концовка речи 1901 г. за пересмотр дела Александра Тальма, осужденного в 1895 г. на 15 лет каторги по обвинению в убийстве: «Гг. сенаторы, из всех ужасов, доступных наше-му воображению, самый большой ужас — быть заживо погребенным. Этот ужас здесь налицо... Тальма похоронен, но он жив. Он стучится в крышку своего гроба, ее надо открыть!»
Но разумеется, живая речь Карабчевского, соединенная с обаянием его голоса, темперамента, внешности, звучала и воздействовала гораз-до сильнее. «Чтение его «Речей», — свидетельствовал близкий к нему
С.В. Карачевцев, — так же мало дает представления о его таланте, как партитура Мельника из «Русалки» или Мефистофеля из «Фауста» — о таланте Шаляпина: кто слышал, тот никогда не забудет; кто не слышал — никогда себе не представит» .
Всероссийское признание Карабчевский завоевывал не только та-лантом, но и подвижническим трудом. Мало кто из адвокатов России мог сравниться с ним по числу судебных процессов (уголовных и по-литических), в которых он принял участие. Уже к 1897 г. он, кроме г грех губерний Петербургского судебного округа, к которому был при-писан, побывал на защитах в Москве, Киеве, Казани, Нижнем Новго-роде, Ростове, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Каменец-По-дольске, Вильне, Либаве, Гельсингфорсе. «Карабчевского, — сказал о нем В.Д. Спасович на одном из адвокатских собраний 1898 г., — я не могу себе представить иначе, как в виде вагнеровского «Frieglende Hollander» (летучего голландца) . Может быть, поэтому Николай Пла-тонович поздно (лишь в 1895 г.) был избран членом Петербургского совета присяжных поверенных, войдя таким образом в круг, как тог-да говорили, «советских генералов».
Едва ли хоть один адвокат России так влиял на судебные приговоры по уголовным и политическим делам, как это удавалось Карабчевско- му. Он добился оправдания почти безнадежно уличенных в убийстве Ольги Палем в 1898 г. и братьев Скитских в 1900 г., предрешил оправ-дательные приговоры по мултанскому делу 1896 г. и делу М.Т. Бейлиса в 1913 г. Осужденному в 1904 г. на смертную казнь Г.А. Гершуни царь заменил виселицу каторгой не без воздействия искусной защиты Ка-рабчевского, а Е.С. Созонов (убийца всемогущего министра внутренних дел В.К. Плеве) в том же 1904 г. не был даже приговорен к смерти, «от-делавшись» каторгой. Сам Карабчевский гордился тем, что ни один из его подзащитных не был казнен .
Недоброжелатели Карабчевского по разным причинам (включая и зависть к нему) пытались объяснить его столь впечатляющие успехи беспринципностью, неразборчивостью в средствах защиты. В.А. Мак-лаков рассказывал, будто Карабчевский в Ясной Поляне у Л.Н. Толсто-го «целый вечер» хвастался тем, как он добился оправдания братьев Скитских, обвинявшихся в убийстве секретаря консистории Комаро-ва, а когда Толстой спросил: «Но кто же, по вашему мнению, Кома-рова убил?», Николай Платонович без зазрения совести ответил: «Не-сомненно, убил Степан Скитский», чем, естественно, шокировал Льва Николаевича . Именно таким бессовестным ловкачом представлен Ка-рабчевский в словаре-альбоме злоязычного «поэта-солдата» П.К. Марть-янова:
Юрист, записан в адвокатский цех,
И там, с добром мешая зло,
Он против всех, за всех, для всех Свое справляет ремесло .
Конкретное, очень громкое дело мещанки Ольги Палем, застрелив-шей в состоянии аффекта своего возлюбленного, студента (из дворян) Александра Довнара, который, как выяснилось, садистски издевался над ней, — это дело стало поводом для бойкой эпиграммы на Караб-чевского:
Не только тем он знаменит,
Что, как актер, он гладко брит,
Что, как премьер, всегда одет И написал роман^памфлет .
Нет, знаменит еще он тем,
Что был защитником Палем,
Что спас ее он без хлопот От тяжких каторжных работ,
Чтоб в мир пошла она опять:
Сперва любить, потом — стрелять .
Думается, дела, выигранные Карабчевским, вопреки намекам и сплетням, говорят, напротив, о принципиальности его юридической и нравственной позиции. Он сам формулировал свое профессиональное кредо таким образом: «Несправедливый приговор — огромное обще-ственное бедствие. Накопление подобных приговоров в общественной памяти и народной душе есть зло — такое же зло, как и накопление умственной лжи в сфере умственной жизни общества» . Следуя этому кредо, Карабчевский всегда изо всех своих сил, казавшихся порой бес-предельными, боролся против любого обвинения до тех пор, пока со-хранялось хотя бы малейшее сомнение в его доказанности.
Отчасти из этих соображений Николай Платонович в 1907 г. взял-ся защищать (вопреки своему обыкновению) высокопоставленного царского сановника, финляндского генерал-губернатора Н.Н. Герарда от надуманных обвинений А.С. Суворина и сотрудников его газеты «Новое время» в том, что Герард будто бы пренебрегал «русскими го-сударственными интересами» и попустительствовал сепаратистским стремлениям Финляндии «примкнуть к Скандинавским соединенным штатам» .
Как юрист, правовед, Карабчевский был воинствующим гуманис-том, таившим в себе «неиссякаемый источник отвращения к смерт-ной казни» . Вслед за B.C. Соловьевым он считал, что смертная казнь вообще «претит русской натуре»: «Петр Великий тщетно собственно-ручно рубил головы стрельцам. Несмотря на этот царственный при-мер, и сейчас у нас палач — тот же «Каин», тот же «продавший душу», каким его считали и встарь» . В страстных статьях против смертной казни («Смертная казнь», «О палачестве») Карабчевский доказывал несостоятельность ее института и с юридической, и с нравственной точки зрения. Он считал так: «Казнь всегда отвратительнее простого убийства и по массе в ней соучастников, и по безнаказанной торже-ственности, с которой убийство совершается. То, что делает, крадучись и под личной ответственностью, убийца, при казни делается открыто и безнаказанно. Здесь безнравственное явно пропагандируется, афи-шируется и санкционируется» .
Одну из своих «Маленьких речей» для еженедельника «Юрист» Ка-рабчевский так и назвал: «О смертной казни». В ней говорилось: «Я ни-когда не мог понять, как наш И.С. Тургенев мог смотреть, да еще крас-норечиво описать казнь Тропмана . Это могло с ним случиться разве только в Париже, атмосфера которого одурманивает здоровое нрав-ственное чувство. В России с ним бы этого не случилось. Я с ужасом ду-маю: как бы я поступил, если бы осужденный стал просить меня как за-щитника, чтобы я присутствовал при исполнении над ним приговора. Я бы не поручился за себя, что в последнюю минуту, обезумев, не бросился бы отнимать его от палачей, — так не мирится с моим созна-нием, со всеми основами моего нравственного существа представление о смертной казни» .
Итак, не беспринципность, а именно принципиальность — юриди-ческая и нравственная — побуждала Карабчевского бороться за своих подзащитных. Здесь важно учесть, что он, по свидетельству его помощ-ника, позднее видного советского ученого-юриста Б.С. Утевского (1887—1970), был «крайне осторожен в выборе клиентов» и отказы-вался от участия в делах юридически или нравственно несостоятельных, даже если ему сулили при этом большие гонорары . Среди тех, кто об-ращался к Николаю Платоновичу за юридической помощью и получил отказ, были продажный журналист В.П. Буренина и знаменитая при-ма-балерина М.Ф. Кшесинская. Прогнав Буренина, Карабчевский выру-гался: «Руки хочется помыть после таких субъектов. Экая мразь!» Что же касается Кшесинской, то на ее просьбы вскоре после Февральской революции 1917 г. «замолвить слово у Керенского», чтобы оградить ее от возможных репрессий, Николай Платонович ответил: «Ведь вы Кше-синская, а можно ли в такое время хлопотать за Кшесинскую!» (с на-меком на ее связь с великокняжеским семейством. — Н. Т.).
Впрочем, была в защитительной манере Карабчевского и сугубо лич-ная, совершенно уникальная особенность, о которой нам стало извест-но лишь из воспоминаний Б.С. Утевского, впервые изданных в 1989 г. Как-то, после 1910 г., уже стареющий Карабчевский, отвечая на вопрос Утевского, почему столь многоопытному адвокату «особенно удаются речи по делам об убийствах», рассказал то, о чем знали только его дру-зья (в частности, С.А. Андреевский). Оказывается, будучи студентом, Николай Платонович «в состоянии невменяемости» (как это призна-ла экспертиза) убил любимую им женщину, и потрясшие его тогда переживания так или иначе учитывал потом в защитительных речах. «Сколько я в своей душе покопался и до, и после убийства! — воскли-цал он. — Этого на сто защитительных речей хватит...»
Зато политических указателей Карабчевский как юрист не призна-вал. Он сторонился «политики» и даже бравировал своим аполитизмом. «Я, господа, — заявил он на процессе по делу М.Т. Бейлиса, — не поли-тик и сознаюсь, что ни в каких политических организациях и партиях вполне сознательно не принимаю участия. Я есть, был и умру судебным деятелем» . Как внепартийный юрист он сочинял иронические эпиг-раммы обо всех партиях. Вот эпиграмма на кадетов:
Мы — кадеты!
В тоги одеты,
Римляне мы Светоч средь тьмы!
Эпиграмма на эсеров:
Мы ярко-красны,
Видом ужасны:
Пуля — реформа,
Бомба — платформа.
И на социал-демократов:
Жаждем мы мира Для всего мира,
Счастья без меры Ценой химеры.
Не участвуя ни в каких политических партиях и считая (как он го-ворил о себе) «неприемлемыми для адвоката замкнутость партийно-сти и принесение в жертву какой-либо политической программе ин-тересов общечеловеческой морали и справедливости» , Карабчевский имел, конечно, вполне определенные политические взгляды. Б.С. Утев- ский определял их как праволиберальные («правее кадетов», «что-то между октябристом и кадетом»), а В.И. Смолярчук считает лево-либе-ральными . Пожалуй, точнее сказать, Карабчевский эволюционировал от левого либерализма (примерно до 1905 г.) к правому.
В революционном движении он вообще никогда не видел «никакой практической пользы», полагая, что и декабризм, и нигилизм 60-х го-дов, и терроризм 70-х имели более гуманную и плодотворную альтер-нативу, не реализованную отчасти по вине революционеров, а именно — «мирную просветительную работу» . Этому убеждению Карабчевский был верен всю жизнь начиная с памятного для него эпизода, когда революционеры-народники попытались вовлечь его в свои ряды. Зимой 1877/78 г., в дни процесса «193-х» подзащитная Николая Платонови-ча Е.К. Брешко-Брешковская (та самая, кого в 1917 г. эсеры назовут «ба-бушкой русской революции») внушала ему на свидании с ним в своей тюремной камере, «как было бы хорошо, если бы он, оставаясь адво-катом, примкнул к их конспиративной работе». Карабчевский «шарах-нулся от подобного предложения»: «Не кровью и насилием возродит-ся мир. Низменное средство пятнает самую высокую цель. Для меня террорист и палач одинаково отвратительны!» Брешковская тогда «глубоко задумалась», но протянула ему руку: «Бог с вами, оставайтесь праведником... предоставьте грешникам спасать мир». «Когда я в пос-ледний раз захлопнул за собою тюремную дверь, — вспоминал о том свидании Карабчевский, — мне показалось, что я оставил живую в мо-гиле. Может быть, про меня она, наоборот, подумала: «Ушел живой мертвец» .
Отвергая в принципе революцию, Карабчевский был столь же не-терпим и к реакции. Он осуждал власть за то, что та избавляется от не-довольных и протестующих «только виселицами, ссылками, каторгой и тюрьмами и официально диктуемым молчанием в печати. А следова-ло поступать как раз наоборот: из числа фрондирующих, либеральству- ющих, сколько-нибудь выдающихся общественных сил правительство должно было вбирать в себя периодически все самое энергичное, жиз-неспособное» . В еженедельнике «Юрист» под редакцией Карабчевско-го 16 января 1905 г. был напечатан фельетон Александра Яблоновско- го «Под суд!», обличавший «величайшее бесправие русских граждан, издевательство над законом, поругание личности» , а 10 июля там же Карабчевский сам выступил за «поголовную чистку и смену лиц, сто-ящих во главе современной бюрократии, вконец дискредитирован-ной...» . Можно представить себе, как Николай Платонович воспринял распутинщину. «Лично меня, — вспоминал он позднее, — нередко умо-ляли написать «только два слова» Распутину относительно исходатай- ствования помилования то одному, то другому осужденному, уверяя, что именно авторитетная просьба, поддержанная им, будет иметь вер-ный успех. Я не согрешил ни разу. Чувство нравственной брезгливости каждый раз заставляло меня наотрез, не входя ни в какие подробнос-ти, отказываться от подобных дел» .
Неудивительно, что с 1869 г., когда 18-летний Карабчевский был арестован за участие в студенческих волнениях, он, по крайней мере, до 1905 г. оставался под жандармским подозрением и надзором как «неблагонадежный». В 1878 г. жандармы инкриминировали ему уча-стие в антиправительственной панихиде , в 1899 — сбор средств в пользу нелегального Красного Креста , в 1900 и 1903 гг. — «неумест-ные суждения о действиях администрации» на судебных процессах . В конце 1903 г. директор Департамента полиции А.А. Лопухин по поручению министра внутренних дел В.К. Плеве вызвал к себе Караб-чевского и потребовал от него под угрозой административной ссылки отказаться от публичных разоблачений жандармского беззакония . Николай Платонович не стал отказываться и в 1904 г. принял участие в трех коллективных акциях протеста против карательной политики, включая декабрьское письмо 112 литераторов и ученых (В.Г. Королен-ко, В.И. Семевского, П.Ф. Якубовича и др.), которое было опубликова-но нелегально .
Антиправительственные настроения Карабчевского имели под со-бой не только юридическую и нравственную, но и семейную опору. Он был женат первым браком (1876—1902) на сестре народовольца
С.А. Никонова Ольге Андреевне, революционно настроенной и неиз-менно помогавшей борцам против самодержавия, «как только мог-ла» . В 1887 г. перед отправкой Никонова в ссылку по делу о покуше-нии на цареубийство Карабчевский вызвался быть шафером на его свадьбе с народоволкой Н.В. Москопуло в церкви Дома предвари-тельного заключения , а в 1897 г. принял к себе помощником только что отбывшего административную ссылку другого брата своей жены А.А. Никонова . Наконец, после того как сестра Ольги Андреевны вышла замуж за социалиста-революционера Б.Н. Никитенко, Караб-чевский оказался свояком страшного террориста (21 августа 1907 г.
Никитенко, обвиненный в «приготовлении к цареубийству» , был по-вешен).
Все сказанное плюс ряд блистательных выступлений на политиче-ских процессах, о которых речь пойдет особо, обеспечило Карабчевскому широкую популярность в радикальных кругах. Поэтому на его юбилей (25 лет работы в звании присяжного поверенного) 13 декабря 1904 г. к не-му съехались, наряду с умеренно-либеральными адвокатами «первого при-зыва» — АЛ. Пассовером, А.Н. Турчаниновым, В.О. Аюстигом, П.А. Поте- хиным — «ультралевые», по выражению самого Карабчевского, лидеры т. н. «молодой адвокатуры»: Н.Д. Соколов, А.А. Демьянов, П.Н. Перевер- зев, ФА. Волькенштейн, Б.Г. Барт (Лопатин) и др. Здесь и случился инци-дент, который вызвал отклики даже в прессе Англии и Германии .
После ряда застольных речей без всякой политики левые начали про-износить спичи «митингового» характера. «Меня, — вспоминал Караб-чевский, — чуть не провозгласили анархистом и будущим главою рево-люции. Жена моя, терпеливо до тех пор слушавшая, вдруг поднялась во весь рост и, чеканя каждое слово, <...> сказала, что не может допустить, чтобы в ее присутствии и в ее доме позволяли себе вести революцион-ную пропаганду». Все левые тут же «демонстративно шумно» встали и направились к выходу. «Мое положение было не из веселых, — как бы оправдывался Карабчевский много лет спустя. — Провожая их у дверей, я просил их остаться, но не находил возможным ни оправдывать их ми-тинговых выступлений, ни извиняться за вполне естественный при ее стойких убеждениях протест жены».
Да, незадолго до того юбилея Карабчевский вступил во второй брак с Ольгой Константиновной Варгуниной — дочерью бумажного толсто-сума, представленного даже в словаре-альбоме П.К. Мартьянова «Цвет нашей интеллигенции»:
Почтенный финансист и фабрикант,
Покрыл всю Русь своей бумагой,
И миллионами разумный коммерсант В делах ворочает с отвагой .
В качестве приданого Николай Платонович получил роскошный особняк на Знаменской улице Петербурга (дом № 45), построенный великим Б. Растрелли , и огромное состояние, что, может быть, и под-винуло его вправо — как бы навстречу убеждениям новой супруги. По свидетельству Б.С. Утевского, «Карабчевский не любил ее, но боялся и терпел ее злобные выходки. Как и все черносотенцы, она была сканда-листкой» .
Если в первый брак Карабчевский вступал по любви , то во второй, несомненно, по расчету, хотя к 1904 г. он был в зените славы, «умел и любил получать огромные гонорары» и мог бы даже без варгунинских миллионов жить в материальном отношении припеваючи. Впрочем, мог ли? Послушаем хорошо осведомленного Б.С. Утевского: «Караб-чевский не ценил денег. Огромные гонорары, которые он получал, бы-стро таяли в его руках. Он широко раздавал деньги, охотно давал «в долг без отдачи». Я точно знал (из его завещания, при составлении которого я был свидетелем), что у него почти не было накоплений» . К тому же на политических процессах Карабчевский выступал защитником без-возмездно.
Об участии Карабчевского в политических процессах надо говорить особо. Б.С. Утевский с чувством уважительной озадаченности констати-ровал: «Особенно удивительно, что Карабчевский при всей его романти-ческой природе, при его весьма ограниченных политических взглядах был исключительно блестящ как политический защитник. В речах на политических процессах он настолько внутренне сживался с подсуди-мым, что начинал мыслить, как он, смотреть на все его глазами, иногда даже говорить его словами. Карабчевский в таких случаях был смелым и мужественным и возвышался до подлинного пафоса и художественнос-ти» . Как политический защитник Карабчевский, пожалуй, выше всех отечественных адвокатов, поскольку П.А. Александров редко выступал и рано умер, не успев проявить себя в полную мощь своих дарований, а «король адвокатуры» В.Д. Спасович при всех его достоинствах на поли-тических процессах грешил принижением обвиняемых, чтобы таким образом облегчить их участь.
Процесс «193-х» (18 октября 1877 — 23 января 1878 г.) — первый и самый крупный из политических процессов, на которых Карабчев- скому довелось выступить как защитнику, — стал для него своего рода боевым крещением, навсегда определившим его сочувствие к борцам за свободу, к их политическим идеалам и нравственным качествам, ис-ключая лишь их подпольные «крайности». Он и спустя полвека не мог забыть «революционное credo» Ипполита Мышкина, ратовавшего со скамьи подсудимых за «наисправедливейшую форму будущего строя»: «Оно потрясло и захватило всю аудиторию. <...> Проповедь Мышкина, я убежден, запала глубоко не в одну молодую душу». Она запала и в душу молодого Карабчевского. Он с волнением слушал трибуна револю-ции, а когда жандармы схватили Мышкина, пытаясь зажать ему рот, Николай Платонович, «потеряв голову, угрожающе бросился на жан-дармского офицера с графином в руках...» .
На процессе «193-х» помощник присяжного поверенного Караб-чевский только набирался опыта как политический защитник, хотя уже тогда блеснул искусством опровергать обвинение: из трех его под-защитных двое были оправданы. В дальнейшем уже как присяжный поверенный Карабчевский ни на одном политическом процессе не от-ступал на второй план. С 1878 до 1917 г., как правило, он вел полити-ческие дела либо один, либо во главе группы адвокатов. Так, на знаме-нитом разбирательстве мултанского дела 1896 г. против удмуртских крестьян, провокационно обвиненных в «человеческом жертвоприно-шении», где среди четырех защитников выступил В.Г. Короленко, Ка-рабчевский был настоящим «бодзим-восясь» (верховным жрецом) защиты . Именно он после шквального допроса свидетелей опроверг юридическую базу обвинения, установив: «все открытое оказалось по-догнанным под ранее намеченное» , после чего оправдательный при-говор был предрешен. Карабчевский же возглавлял защиту на сходном по своей провокационно-политической сущности, всемирно извест-ном процессе 1913 г. по делу М.Т. Бейлиса — киевского конторщика, еврея, который тоже был обвинен в ритуальном убийстве. И здесь Николай Платонович в блестящей защитительной речи не оставил от обвинения камня на камне, а телеграф разнес по всему свету: «Бейлис оправдан».
Впрочем, Карабчевский блистал не только на крупных и громких процессах. Он мог привлечь внимание и к делу скромному, как, напри-мер, первое в России дело кадетов (собственно, членов Союза освобож-дения — ядра будущей Конституционно-демократической партии) Е.В. Аничкова и А.В. Борман (Тырковой) весной 1904 г. По поводу запис-ки антиправительственного содержания, извлеченной при обыске у Аничкова «из корзины для ненужных бумаг», Карабчевский здесь зая-вил: «Мы миримся с мыслью, что у нас нет свободы слова, но как отнять у себя уверенность, что у нас есть, по крайней мере, свобода мысли? Мало ли что я могу набросать у себя и для себя на бумаге! Этого у чело-века отнять никто не может, как нельзя отнять у него право дышать. Я могу быть убежденнейшим революционером в мысли, могу поверять свои заветные думы бумаге, завещать их далекому потомству, когда рас-пространение их перестанет быть преступлением. Я не вправе лишь со-чинить нечто предназначаемое для распространения, чего распростра-нять нельзя под страхом наказания» .
На политических процессах Карабчевский буквально сражался за своих подзащитных (как в последнем случае за Аничкова), рискуя пе-рейти ту «демаркационную» линию, которая отделяла защитника от подсудимого. С наибольшей силой это его качество сказалось на двух процессах 1904 г., которые и принесли ему самую большую сла-ву. Это процессы по делам Григория Гершуни и, особенно, Егора Со- зонова.
Дело основателя и руководителя Боевой организации эсеров Г.А. Гер-шуни слушалось 18—25 февраля 1904 г. в Петербургском военно-окружном суде. Стараниями сыска и следствия, а также благодаря председательству судившегося здесь же боевика Е.К. Григорьева, Гершу-ни был подведен под смертный приговор необратимо. Однако Караб-чевский нашел пути к спасению его жизни. Во-первых, он юридически и нравственно акцентировал тот факт, что обвиняемый лично ни в одном из террористических актов не участвовал. Главное же, Карабчев-ский настойчиво в ходе всего процесса изыскивал и фиксировал в конструкции обвинения малейшую неопределенность. Так, в ответ на заключение одного из экспертов, что он «с почти полной несомненно-стью» удостоверяет подпись Гершуни на улике против него, Николай Платонович воскликнул: «Гг. судьи! Сказать «почти» в таком вопросе недостаточно, ибо не можете же вы подсудимого Гершуни «почти» повесить!» Судя по записям, сохранившимся в архиве Карабчевского, он установил и констатировал на суде, что в деле Гершуни «главными и почти единственными уликами являются оговоры, сделанные с целью смягчения собственной участи» .
Отчасти расшатав таким образом обвинение, Карабчевский «создал атмосферу, в которой можно было поднять вопрос о замене для Гершу-ни смертной казни пожизненной каторгой» . Но Гершуни категоричес-ки отказался просить о помиловании: «У нас это не принято» . Тогда Карабчевский решил подать такую просьбу от своего имени, «что до сих пор не практиковалось» . На последнем свидании с Гершуни в ка-мере смертника он заявил своему подзащитному: «Меня, соприкоснув-шегося с вами и с вашим делом не в качестве вашего единомышленни-ка, а только как защитника, вы не вправе лишать общих прав человека и гражданина — протестовать лично против смертной казни и действо-вать в данном случае сообразно моим собственным убеждениям. Я по-дам просьбу о помиловании от своего имени и под своей личной ответ-ственностью, в ней не будет сказано, что просите о помиловании вы, просить, т. е., по-вашему, «унижаться» буду я».
«Заявление мое, — вспоминал Карабчевский, — было категорично. Приберег я его к самому концу свидания и, не ожидая ответа, протя-нул руку для прощания» . В таком положении Гершуни не счел нуж-ным возражать.
По ходатайству Карабчевского император Николай II заменил Гер-шуни смертную казнь пожизненной каторгой. Гершуни был отправлен в Акатуйскую каторжную тюрьму (в Забайкалье), откуда уже через год бежал за границу. Перед тем как бежать, он написал Карабчевскому бла-годарственно-дружеское письмо, которое тот получил «нелегальным пу-тем» и бережно хранил у себя .
На процессе Е.С. Созонова в Петербургской судебной палате 30 но-ября 1904 г. положение Карабчевского (как и его подзащитного) было еще труднее. Созонов, схваченный на месте преступления, после того как он взорвал своей бомбой бронированную карету, в которой ехал к царю министр внутренних дел и шеф жандармов В.К. Плеве, был обре-чен на смертную казнь. Единственный и притом микроскопический шанс спасения для него Карабчевский увидел в том, чтобы переключить хотя бы отчасти внимание суда и общества от преступления Созонова против человека по имени Плеве на ряд преступлений самого Плеве против человечности. Этот шанс он использовал максимально. В яркой, поистине вдохновенной защитительной речи он доказывал, что Созо-нов был движим не чувством мести лично Плеве, а идеей самопожерт-вования ради общего блага: «Отнимая у другого человека жизнь — жизнь, которую он считал опасною и гибельною для родины...
Председатель 1 . Прошу не употреблять таких выражений!
Карабчевский. Он охотно отдавал за нее и собственную, молодую, полную сил жизнь, как плату за свою отважную решимость. Какую еще более дорогую плату он мог предложить для засвидетельствования всей искренности и всего бескорыстия побудивших его мотивов?»
Главное же, продолжал Карабчевский, Созонов решился на самопо-жертвование под воздействием «объективных условий»: «После убий-ства министра Сипягина вакантное место занял Плеве. Балмашев был повешен. В обществе воцарилось гробовое молчание. Печать — един-ственная выразительница общественного настроения — или подне-вольно молчала, или заискивала у всесильного министра, раболепство-вала перед ним...
Председатель. Я лишу вас слова, если вы еще раз позволите себе по-добные выражения!
Карабчевский. Печать, к сожалению, безмолвствовала.
Председатель. Я же остановил вас!
Карабчевский. Вы остановили меня, но не остановили моей мысли, и она продолжает работать. Я должен дать ей выход...»
Выдержав паузу, Карабчевский закончил речь впечатляющей ата-кой на карательную политику Плеве и всего царского режима. «Он (Плеве. — Н. Т.) настоял на повешении Балмашева, он заточил в тюрьмы и послал в ссылку тысячи невинных людей, он сек и расстреливал крестьян и рабочих, он глумился над интеллигенцией, сооружал мас-совые избиения евреев в Кишиневе и Гомеле, он задушил Финляндию, теснил поляков, он влиял на то, чтобы разгорелась наша ужасная вой-на с Японией, в которой уже столько пролито и еще столько прольет-ся русской крови... Созонову казалось, что Плеве — чудовище, которое может быть устранено только другим чудовищем — смертью. И, при-нимая трепетными руками бомбу, предназначенную для Плеве, он верил, свято верил в то, что она начинена не столько динамитом, сколько слезами, горем и бедствиями народа. И когда рвались и раз-летались в стороны ее осколки, ему чудилось, что это звенят и разби-ваются цепи, которыми опутан русский народ...
Председатель. Я запрещаю вам! Вы не подчиняетесь! Я принужден буду удалить вас!
Карабчевский. Так думал Созонов.- Вот почему, когда он очнулся, он крикнул: «Да здравствует свобода!»
Процесс Созонова стал звездным часом для Карабчевского, а его «со- зоновская» речь — событием не только в жизни Николая Платоновича, но и в истории российской адвокатуры. После речи П.А. Александрова в защиту Веры Засулич (1878) ни одна из защитительных речей на поли-тических процессах в России не производила столь сильное впечатление на современников, как речь Карабчевского по делу Созонова. Хотя до 1916 г., когда текст ее появился в 3-м издании «Речей» Карабчевского, цензура числила «созоновскую» речь в категории запретных, широкие общественные круги все равно знакомились с ней по нелегальным и за-рубежным изданиям, спискам и устным рассказам, а в 1911 г., к 60-ле-тию Н.П. Карабчевского, его помощники осуществили подарочное изда-ние этой речи «тиражом»... в 1 экземпляр.
«Единственный экземпляр, — вспоминал об этом Б.С. Утевский, — был издан с исключительной роскошью и художественным вкусом, бла-годаря взявшему на себя художественное оформление книги прекрасно-му графику Георгию Нарбуту. Книга печаталась в лучшей русской типографии Голике и Вильборга на пергаменте. Сафьяновый переплет был сделан по эскизу Нарбута. Все заглавные буквы, виньетки, форзац были от руки сделаны тушью самим Нарбутом. Цензура не разрешала печатать эту речь Карабчевского, но так как издавался один экземпляр, мы договорились с цензором. Карабчевский был рад этой книге. Он хра-нил ее в своем письменном столе.
Когда в 1921 г., — продолжал Утевский, — я приехал с Украины в Петербург, то сделал попытку разыскать архив Карабчевского и эту книгу. <...> В особняке Карабчевского помещался госпиталь. Отыскал коменданта. О Карабчевском он никогда не слышал. Никакого иму-щества Карабчевского не оказалось. Не нашел я и речи по делу Созо- нова. Судьба ее осталась неизвестной. Может быть, она стоит на полке в чьем-либо книжном шкафу. Может быть... В одном я убежден: вряд ли она уничтожена, слишком она была хороша!»
Феномен Карабчевского как политического защитника таит в се-бе одну загадку: как соотнести его умеренные политические взгляды (вспомним ироническую эпиграмму Николая Платоновича на эсеров) с его же страстной защитой террористов Гершуни и Созонова? По-ви-димому, разгадка здесь такова: юрист, а не политик, как он сам о себе говорил, и гуманист, Карабчевский защищал не столько политические идеалы революционеров (их средства борьбы он вообще отвергал), сколько их право на свободу мнений и личности, право на жизнь. Во всяком случае, он имел больше, чем кто-либо, оснований заявить 16 мая
1916 г. он имени корифеев российской адвокатуры: «Мы были всюду, куда нас звал сословный долг к защите права и справедливости. С Бреш- ковской, Перовской, Засулич, Гершуни, Созоновым и всеми передовы-ми борцами и мучениками за свободу <...> мы стояли бок о бок, за-щищая их своей грудью. Мы смело боролись за их участь, за их судьбу свободным словом» .
Российская присяжная адвокатура, благодаря таким людям, как Н.П. Карабчевский, за полвека своего существования добилась многого. Она противостояла всякому беззаконию, в любых условиях отстаивала нормы права, а на политических процессах вырывала у карательного мо-лоха старых и привлекала к ним новых борцов, — словом, тоже вплета-ла лавры в тот, по выражению народовольца АД. Михайлова, «терновый и вместе лавровый венец»
Речь в защиту Имшенецкого
Речь в защиту И.И. Мироновича
Речь в защиту Ольги Палем
Речь в защиту Александра Шишкина
Речь в защиту мултанских вотяков
Речь в защиту Бутми де Кацмана
Речь в защиту Киркора Гульгульяна
Речь в защиту интересов гражданского истца графа А. В. Орлова-Давыдова
Речь в защиту братьев Скитских
Речь в защиту Александра Тальмы
Речь в защиту Николая Кашина
Речь в защиту Александра Богданова
Речь в защиту Сазонова
Речь в защиту генерала Ковалева
Речь в защиту Ф. П. Никитина
Речь в защиту капитана 2-го ранга Ведерникова
Речь в защиту Бейлиса
Речь в защиту князя Дадиани
Речь в защиту Антонины Богданович
Речь в защиту Имшенецкого
Дело Имшенецкого Введение в дело: Поручик В.М. Имшенецкий женился в феврале 1884 г. на дочери состоятельного купца Серебрякова Марии Ивановне. Спустя недолгое время, он получил от жены нотариально заверенное завещание, по которому наследовал дом и все имущество в случае ее смерти. До свадьбы поручик был влюблен в Елену Ковылину, дочь обедневшего купца, который не мог дать за ней приданого. Брак с Серебряковой был браком по расчету. И без того небогатый Имшенецкий задолжал Серебрякову, Мария Ивановна же находилась в положении от другого мужчины. 31 мая 1884 г. вечером, в начале девятого, супруги, любившие прогулки по реке, сели в собственную лодку, жена на руль, муж на весла и поехали в сторону Петровского моста, недалеко от которого и случилось несчастье. Свидетельница Шульгина, жившая на даче близ моста, видела проехавшую мимо лодку с двумя пассажирами, а когда та скрылась за пристанью, услышала крик о помощи. Поручик утверждал, что жена, решив пересесть, встала, вдруг покачнулась, хотя волнения на воде почти не было, упала за борт и камнем пошла на дно. Имшенецкий бросился за ней, но, отнесенный течением в сторону, не смог ничем помочь. Мать и сестра погибшей утверждали, что Имшенецкая хорошо плавала, поэтому у следствия возникло подозрение, не оглушил ли поручик свою жену, но весла в лодке не были вынуты из уключин и судебно-медицинская экспертиза не обнаружила каких-либо прижизненных повреждений на трупе, зато установила, что покойная была беременна, а беременность, особенно на ранних стадиях, часто вызывает неожиданные головокружения и обмороки. Обвинение утверждало, что Имшенецкий утопил жену во время катания на лодке с целью завладения имуществом и последующей женитьбы на Ковыленой. Поручик вину не признал, объясняя все трагической случайностью.
Защитительная речь: Господа судьи! Внимание, с которым в течение многих дней вы изучали малейшие подробности этого трудного дела, широкое беспристрастие, которым, благодаря вам, господин председатель, мы пользовались в интересах раскрытия истины, дают мне право надеяться, что вы и мне поможете исполнить мой долг до конца. Закон обязывает меня, как выразителя интересов подсудимого, представить вниманию вашему все те, говоря словами закона, "обстоятельства и доводы, которыми опровергаются или ослабляются возведенные против подсудимого обвинения". Таких обстоятельств и доводов в деле масса, они рассеяны на протяжении всего следствия, они глядят из всех углов строения обвинительного акта, они наперегонки рвутся вперед и просят, чтобы их сомкнули в стройную систему. В этом вся моя задача как защитника. Материал громаден. Весь вопрос; хватит ли у меня умения, энергии быть строителем той группировки доводов защиты, при которой они сами красноречиво скажут вам, доказано ли обвинение. Сообразно этому взгляду на мою задачу я поступлю иначе, чем поступили мои противники. Я не буду убегать от фактов и укрываться от них в область красноречивых восклицаний, загадочных прорицаний и эффектных тирад. Я поведу эти факты за собой не в виде двух-трех сомнительных свидетельских показаний, а в виде всего материала, добытого следствием. Вольно прокурору восклицать "я убежден!", вольно поверенному гражданского истца думать, что "доказать обвинение и грозить" его доказать однозначаще; для судей этого мало. Вы не подпишите приговора по столь страшному и загадочному обвинению до тех пор, пока виновность Имшенецкого не встанет перед вами так же живо и ярко, как сама действительность. Факт падения покойной в воду с ближайшими обстоятельствами и уликами, прилегающими к нему, составит предмет первой и главной части моей речи. Затем, если на основании исследования самого события мне удастся доказать вам невиновность подсудимого, я уже с развязанными руками подойду к группе обстоятельств, примыкающих к личности Имшенецкого, с одной стороны, с другой к личности Серебрякова, участие которого в этом процессе с первых же моментов предварительного следствия внесло, к сожалению, столько нежелательных в чистом деле правосудия элементов. Начну с события 31 мая. Напряжение преступной решимости Имшенецкого покончить с женой так или приблизительно так значится в обвинительном акте достигло высшей своей точки после 28 мая. когда, как утверждает обвинение со слов Серебрякова, покойная изобличила мужа в желании произвести у нее выкидыш, и отец пригрозил ей проклятием. Хорошо делает обвинение, что доверяет в этом Серебрякову, потому, что верить больше некому. Но поверите ли вы ему? Вы вспомните, что, подавая жалобу прокурору, сам Серебряков ни слова не упоминал о выкидыше. Вы вспомните, что это новое его заявление было связано с новыми же указаниями на то, что Имшенецкий в течение трех дней с 28 по 31 мая будто бы жестоко истязал свою жену. А открылось это так: какой-то прохожий, не открывший ни имени своего. ни звания, и доселе не розысканный, по время розысков трупа покойной сказал приказчику Серебрякова, Степанову: "бедная, какие истязания приняла она в последние дни", Сказал и удалился молча в глубину Крестовского острова на глазах Степанова и подъехавшего Серебрякова. Об этом свидетельствовал нам Серебряков. Они дали ему спокойно уйти, не догнали его, хотя Серебряков был на своей лошади, не задержали и не представили к следствию. Посмотрим, между тем, что говорят по тому же предмету не призрак, измышленный Серебряковым, а живые люди, люди, Имшенецкому совершенно посторонние, свидетели, которые здесь давали показания под присягой. Дворник Дурасов и жена его, люди скорее преданные Серебрякову, нежели подсудимому, кухарка Кузнецова, денщик Гаудин, Кулаков, единогласно утверждают, что именно в последнее время покойная Мария Ивановна и поздоровела, и расцвела, и оживилась, что самые последние дни перед смертью, как и во время замужества, между нею и мужем отношения были прекрасные. Муж был с женой мил и любезен, она же не скрывала даже перед посторонними своей горячей любви, преданности и благодарности. В самый день 31 мая, свидетельствуют нам Кузнецова, Кулаков и Гаудин, покойная и муж ее были веселы, шутили, строили планы, как проведут лето. В восьмом часу вечера (показания Гаудина и Кузнецовой) сама Мария Ивановна торопливо приказала давать чай, чтобы, отпив чай, скорее ехать кататься на лодке. В начале девятого часа она с мужем уже на пристани, где их видит околоточный надзиратель Кишицкий. Когда они садились в лодку, на плоту был содержатель плота Файбус. Он удостоверил здесь, что покойная всегда храбро и смело садилась в лодку, видимо, любила кататься, нисколько не робела на воде и отлично правила рулем. Этот свидетель не заметил, чтобы и на этот раз покойная менее охотно и радостно отправлялась на обычную прогулку. Маршрут их также был почти заранее известен; по Неве до Тучкова моста, отсюда в Ждановку и через Малую Невку ко взморью. Таким образом, все подозрения, касающиеся "истязаний" и того, будто бы Имшенецкий чуть ли не насильно посадил жену в лодку, не более, как плод беспощадного разгула мрачной фантазии Серебрякова, привыкшего в собственном своем доме все вершить деспотическим насилием. Пусть так! уступает обвинение, пожалуй, она поехала добровольно, исполняя каприз или желание любимого мужа, но погода, атмосферные грозные предзнаменования вот улика! Будем говорить о погоде. Доктор Муррей, тот самый, на которого так охотно ссылается прокурор, утверждает, что весь тот день погода стояла "прекрасная". Только в десять часов (а не в девятом, как ошибочно указал обвинитель), когда Муррей уже вернулся с семейством домой с прогулки, пошел дождь. То же самое о том же предмете утверждает и Имшенецкий: до "Баварии" они доехали при отличной, хотя и несколько облачной погоде, лишь у "Баварии" их застал дождь, от которого они на время должны были укрыться под Петровским мостом. Переждав минут двадцать, они снова двинулись вверх по течению. Дождя уже не было, и самая пересадка происходила не под дождем. На крайней даче у Петровского моста жила Шульгина, показание которой, за ее болезнью, было здесь прочитано. Вот что она говорит: "Ровно в десять часов я вышла на балкон (перед тем она взглянула на часы, так как ждала мужа к чаю), в то время дождя не было, минут через пять-семь ближе к берегу показалась лодка, выехавшая из-под моста; я видела лодку, на ней были две фигуры мужчина и женщина (это была лодка Имшенецких); лодка проехала и скрылась из глаз моих за второй пристанью; вдруг раздался отчаянный крик о помощи" и т. д. Это показание совпадает вполне с показанием самого подсудимого. Итак. в момент катастрофы, а следовательно, и пересадки дождя не было и было настолько светло, что со второго этажа дачи, с балкона, лодка и фигуры, были ясно видны. О том же моменте вот что говорит яличник Филимон Иванов, вытащивший Имшенецкого из воды: "Когда пошел дождь, я был в будке; дождь перестал, я вышел из будки на плот. Стоя на плоту, вдруг слышу мужской голос; "Спасите!". Я огляделся, вижу: по течению поперек плавает лодка, и от нее в двух-трех шагах в воде по горло плавает человек. Я вскочил в ялик" и т. д. Итак, дождя не было и было светло. Светло настолько, что с плота пристани "Бавария" (в расстоянии двух с лишком минут усиленной гребли) Иванов легко увидел и лодку и плавающего человека. При местном осмотре вы, судьи, убедились сами, что с пристани "Бавария", где в тот вечер шло обычное гулянье, пункт катастрофы открыт вполне. Сторож Петровского моста тоже услыхал крик, вышел из будки и с моста ясно различил пустую лодку, фигуру в воде и подъезжавших к месту катастрофы яличников. Итак, падение в воду Имшенецкой или, как того желают обвинители, "насильственное утопление ее" произошло на открытом для сотни глаз месте, когда было светло, когда несколько свидетелей следили за движением лодки. Что касается до атмосферных явлений, "ветра и волнения", то и на этот счет мы имеем положительные указания. Во время местного осмотра были приглашены свидетели братья Зюковы и Голубинский, катавшиеся также на лодке в вечер катастрофы. Целой компанией они и подъехали на крик Имшенецкого. На мой вопрос, были ли сильные волны и ветер 31 мая, они единогласно удостоверили, что волнение было меньше, чем в день нашего осмотра. Вспомните сами, да и эксперт-моряк нам это подтвердил, что во время нашего морского путешествия волнение было ничтожное, которое моряк-эксперт и "за волнение" не хотел признать. Где же "ужасающая погода", о которой говорится в обвинительном акте, где "темнота от нашедших туч", где гром и молния, где все атмосферные ужасы, столь злобно способствовавшие осуществлению демонического преступного замысла? Их не было! Они понадобились только при составлении обвинительного акта, как бутафорские принадлежности. Был прекрасный, несколько пасмурный вечер, перешедший затем в дождливую ночь, и только. На месте происшествия мы были с вами, судьи. Утверждать, что это место "глухое", "безлюдное" значит грешить явно против истины. От самого Петровского моста и до пристани "Бавария" вдоль всего берега, ближе к которому и имело место происшествие, идет сплошной ряд двухэтажных населенных дач. На набережной ряд скамеек для дачников, по берегу несколько плотов и пристаней. Достаточно вспомнить, что в самый момент катастрофы везде оказались люди, которых нельзя было не видеть и с лодки. На двух балконах дач стояли Бетхер и Шульгина, на плоту какая-то женщина полоскала швабры, на пристани "Бавария" были яличники. На первый же крик Имшенецкого сбежались дачники, и на плоту, куда его высадили, мигом образовалась целая толпа. Катастрофа случилась всего в 10-20 саженях от этого людного берега, и мы вправе энергично протестовать против утверждения обвинителя относительно глухости и безлюдности места. Самое место, где произошло падение Имшенецкой в воду, открыто со всех сторон. Относительно точного определения пункта самого падения покойной, по-видимому, происходит некоторое разногласие. Но это разногласие лишь кажущееся. Судебный следователь Петровский на плане определял место падения исключительно на основании показания яличника Ф. Иванова. Иванов греб, сидя спиной к месту происшествия. Естественно, что он не мог ориентироваться и точно указать, где именно впервые он заметил пустую лодку. Впоследствии явились более точные показания целой серии лиц, катавшихся в ялике Голубинского. Они увидели лодку впереди себя и направлялись к ней, ни на минуту не теряя ее из виду. При осмотре братья Зюковы и Голубинский вполне точно и между собой согласно указали самое место катастрофы. Место это не доезжая купальни Ковалевского, в 10-15 саженях от берега. Там же всплыла и шляпка покойной, саженями 2-3 ниже по течению. Место открытое для наблюдения со всех четырех сторон. Вспомним при этом, что Мария Ивановна была физически сильна (показание ее матери и сестры), что она превосходно плавала и что никто из свидетелей не слыхал женского крика. Вы,.конечно, согласитесь со мной, что всякая попытка "умышленно утопить" на глазах всех взрослого человека была бы со стороны Имшенецкого совершенным и истинным безумием. Даже расчета на случайность, сколько-нибудь вероятную, быть не могло. Ударов он ей не наносил, весла остались на местах, знаков насилия на ее теле не найдено. Стало быть, он мог бы разве только "толкнуть" ее; но при таком его "толчке" она еще могла вскрикнуть, могла ухватиться за него же самого и увлечь за собой, могла, наконец, и доплыть до берега Петровского острова. Итак, я утверждаю, что вся обстановка и местность сами по себе уже препятствовали и делали невозможным совершение преступления, сколько-нибудь осмысленного, а тем более заранее обдуманного. А именно в этом невозможном и обвиняется Имшенецкий! Самая покупка ялика, который при испытании оказался довольно валким, ставится в улику Имшенецкому. Прокурор пошел очень далеко в этом направлении. Он утверждает, что и женился-то Имшенецкий едва ли не с расчетом приобрести именно такой ялик, который помог бы ему утопить свою жену. Поверенный гражданского истца держался более в пределах вероятности. Он стоит лишь на том, что "невозможно" было катать беременную женщину в подобной лодке. Я бы сделал поправку: "неосторожно", пожалуй! Но дело в том, что в той же самой лодке он катался и один и в компании с товарищами. Ездили много, часто, далеко, пересаживались и, при известной осторожности, всегда благополучно. По словам экспертов, подобных лодок в употреблении множество, хотя они и представляют большую опасность, чем настоящие "ялики" и катера военно-морского типа. Однако на Волге, на Дону, на Днепре, на всем побережье Черного моря нет иных лодок, и ими пользуются все безбоязненно. Лодка Имшенецкого при всей своей валкости имела, по заключению экспертов, и свои неоспоримые достоинства: легкость на ходу и, благодаря обшивке бортов и воздушным ящикам, устойчивость в том отношении, что совершенно перевернуть ее было почти невозможно. Обвинители говорят: "но пересадка в высшей степени опасна! Как это мог допустить Имшенецкий?" При тех приемах пересадки, при которых делался опыт при осмотре, пересадка, конечно, в высшей степени опасна. Лейтенант Кутров со своим матросом буквально "бегали" с руля на нос и обратно, припадая, хватаясь за борт. Лодка, однако, устояла, никто в воду не упал. Опыт, повторенный самим Имшенецким, был более удачен. Несмотря на суетливость и одновременность перехода Кутрова, Имшенецкий, не спеша, довольно спокойно, не сгибаясь, перебрался с руля на нос и обратно. Возможно представить себе еще более спокойную и безопасную пересадку сидящий на руле встает и осторожно добирается до средней банки, на которую и садится; тогда встает носовой, лодка оттого, что сидят на середине, становится устойчивее; носовой достигает руля, усаживается, и тогда уже со средней банки на носовую пересесть совсем не трудно. Именно таким способом пересаживалась обыкновенно покойная и, по словам свидетеля Аврамова, нисколько при этом не боялась. Имшенецкий нам говорит, что, когда покойная попросила его пустить ее на весла, он отговаривал, говоря: "погоди до Ждановки там пущу!". Но она возразила "я хочу попробовать грести против течения!" и с этими словами, скинув через голову веревочку от руля, поднялась в лодке во весь рост. При первом же своем движении она вдруг покачнулась и полетела в воду так, что мелькнули только ее ноги. Что мог сделать при подобной неожиданности Имшенецкий, чтобы воспрепятствовать ей встать? Ровно ничего. Эксперты-врачи пояснили нам, что в первые месяцы сама по себе беременность не может стеснять и мешать легкости движений, но зато она вызывает нередко головокружение и болезненное замирание сердца. Быть может, у покойной от быстрого движения как раз закружилась голова, в таком состоянии она могла покачнуться и вот разгадка всего несчастья. Физически воспрепятствовать ей встать Имшенецкий не имел возможности. Он сидел на веслах, то есть почти на носу, она же на руле, стало быть, далеко от него. Прокурор допускает, что фантазия "погрести против течения" могла прийти в голову покойной, хотя бы в качестве шальной фантазии беременной женщины. Но поверенный гражданского истца восклицает: "Как же он при этом не подал ей руки, если не как заботливый муж, то хотя из вежливости, как кавалер даме?". Тирада красива, но это не более как "слова". Поверенный вместе с нами осматривал лодку. Для всех было ясно, что с носа на руль руки не протянешь. Мало того, когда встал один, чтобы переходить, другой обязательно должен сидеть на своем месте во избежание замешательства и столкновения на ходу. Если верно утверждение подсудимого, что покойная встала для него неожиданно, то Имшенецкому только и оставалось, что сидеть во избежание несчастья. В улику подсудимого ставится еще его поведение вслед за катастрофой, его равнодушие, безучастие и еще очень многое, не поддающееся точной формулировке. Возникло, например, сомнение: точно ли он "совсем" упал в воду или до половины груди был сух, так как держался за борт лодки. Все подобного рода недоумения и сомнения могут иметь место лишь при поверхностном и неполном знакомстве с делом. Вы дело изучили прекрасно, судьи, я его также знаю хорошо, и мы, вероятно, придем к полному соглашению на этот счет. Единственный свидетель, подъехавший вплотную к лодке Имшенецкого, спасший его самого, был яличник Филимон Иванов. Он так объясняет; "офицер плавал от лодки шагах в двух-трех, он был по горло в воде". Далее, Филимон Иванов, вытащив его на свой ялик, накинул на него пальто, и по этому поводу говорит: "он был весь мокрый". Шульгина, разговаривавшая на плоту с Имшенецким, и муж ее, отвозивший подсудимого на извозчике домой, удостоверяют, что "он был весь мокрый", что он дрожал, стучал зубами, его било, как в лихорадке. Денщик Гаудин и Кулаков, раздевавшие Имшенецкого, утверждают, что на нем "не было нитки сухой". Все платье, все белье, даже деньги в бумажнике внутреннего кармана, были мокры. Откуда же могло взяться мнение, что он симулировал свое падение в воду? Компания Голубинских, подъезжавшая к его лодке не ближе, как на расстоянии 5 саженей, породила все это сомнение. Один из них говорит: "плечи, кажется, были сухие", другой "должно быть, сухие", так как свидетель не заметил, чтобы вода "струилась", третий, четвертый и пятый говорят: "не заметили". Их ошибка легко объясняется расстоянием и тем, что Имшенецкий был уже наполовину вытащен из воды, когда они подъехали к нему на минимальное расстояние пяти саженей, в котором затем до конца и оставались. С суконного платья потоки струиться долго и не могут: вода им поглощается. Голубинские, очевидно, несколько легкомысленно отнеслись к предложенному им вопросу. Те из их компании правы, которые говорят: "не обратили внимания", "не заметили". Был, правда, на берегу еще свидетель Ковалевский, выставленный к следствию Серебряковым. Тот, потрогав "за рукав пальто", нашел, что "и ноги у Имшенецкого были сухи". Что Имшенецкий был весь в воде и, стало быть, что он был и мокр весь, может быть доказано и следующими простыми соображениями. По словам свидетелей из компании Голубинских и Зюковых, Имшенецкий один говорит "барахтался", другой "царапался", третий "держался у задней части лодки". По отзыву эксперта, за руль и за борт держаться было невозможно, он мог придерживаться только за боковые выступы лодки. Для того же, чтобы поставить себя в подобное положение, надо было во всяком случае вывалиться за борт лодки, то есть, другими словами, совершенно погрузиться в воду и затем уже подплыть к этой части лодки. Однако и самое предположение, что Имшенецкий держался будто бы вплотную у лодки, отнюдь не доказано. Яличник Иванов, выхвативший его собственными руками из воды, удостоверяет, что Имшенецкий "не мог держаться" за лодку, так как был он от нее в двух-трех шагах ниже по течению. Если Зюковы и Голубинские видели Имшенецкого впереди лодки и подвигались все время, имея его между лодкой и собой, то естественно, что он казался им у самой лодки. Черная фигура Имшенецкого на фоне белой лодки могла казаться с нею на одной вертикальной плоскости. Вот я гляжу на канделябр, стоящий прямо против меня на столе, его очертания кажутся мне вырезанными на фоне белой стены, а между тем он отстоит далеко от стены! Если, таким образом, нужны постоянные усилия разума, постоянные поправки для правильного суждения о простых физических впечатлениях, то с какой же осторожностью надо полагаться, на суждения и впечатления относительно явлений психического свойства. Перед нами прошла масса свидетелей, передававших нам о том, какое именно впечатление на каждого из нас произвело поведение Имшенецкого. Одним это поведение казалось естественным, трогательным, другим - странным. Одним было его жалко, другим жалко не было. Мне кажется, что вы поступите правильно, если отрешитесь вовсе от свидетельских "чувствований" и "мнений" и примете только фактические сообщения их о том, что именно делал, говорил и как держал себя Имшенецкий. Филимон Иванов бесхитростный в деле оценки психологических тонкостей, а потому и самый надежный, с моей точки зрения, свидетель говорит: "Когда я втащил офицера в ялик, он всплеснул руками: "Где моя Маша?" говорит. "Сидите, говорю ему, смирно, вашей Маши нет уже". Затем, далее, офицер опять начал печалиться о своей Маше: "Где Маша, где Маша?". Потом схватил с себя часы, дает их мне: "Спасите, говорит, мою Машу!". Трудно, кажется, придумать более простую, берущую за сердце сцену. При этом ни аффектации, ни притворного крика о том, что я-де не виноват, я так ее любил, она сама упала в воду и т. д. А все это было бы естественно в человеке, боящемся подозрения! Голубинские и Зюковы так нам передают свои впечатления. Когда Имшенецкого посадили в лодку, он ломал руки, плакал и говорил: "Жена моя. Маша, Маша! как я теперь покажусь домой, что я старикам скажу!". Фраза знаменательная, над которой я бы смело рекомендовал всем психологам призадуматься. Одному из Зюковых показалось только "странным", что, когда всплыла шляпа и яличник бросился к ней в лодке. Имшенецкий "замолчал, вперил в нее глаза и не торопил яличника". Последнее замечание свидетеля, подчеркиваемое обвинителями, конечно, очень тонко и глубокомысленно. Я сомневаюсь, однако же, в том, чтобы порыв напряженного ожидания и затаенной надежды выражался шумно. Мне казалось бы, что человек именно как бы "замирает" в подобную минуту, он словно боится проронить слово, звук, чтобы не спугнуть то, чего он так страстно желает и ждет. Я не выдаю этого положения за аксиому, но я почти уверен, что это "должно быть так" и что столбняк Имшенецкого был естественен. Затем уже наверное я знаю, что если бы Имшенецкий при виде шляпки заволновался и стал кричать: "вот, вот она, моя голубка, моя Маша, я ее вижу, спасите ее!", обвинители аргументировали бы в обратном порядке. Они бы восклицали тогда: "Он знал, что жена его уже безвозвратно погибла мученической кончиной от его же руки, и он торопил, он кричал "спасайте!", когда всплыла одна только ее шляпа. "Какое злодейское лицемерие!". Такая психология о двух концах, и у нас, "судебных ораторов", к сожалению, она в большом ходу. Когда Имшенецкого вытащили на берег, здесь его окружила целая толпа, и о поведении его свидетельствует уже целая масса лиц. Бетхер и некоторые другие свидетели за толпой не видели Имшенецкого, но зато слышали его плач. По их словам, он плакал так, "как не плачут мужчины". Это были истерические рыдания. По словам Шульгиной, бывшей ближе всех к нему, "он держал в руках шляпу жены, целовал ее, рыдал, говорил отрывисто и несвязно, рассказывая о событии, при этом повторял: "Что я скажу старикам, что я скажу?". Прокурор удивляется, что разные свидетели рассказывают со слов обвиняемого разно о том, как именно упала жена Имшенецкого и как он бросился за ней. Так, Бетхер говорит, что будто бы он "схватил ее за шляпу", но не удержал. Эта Бетхер немка и вовсе не знает по-русски, она давала здесь свои показания через переводчика. Очевидно, не со слов Имшенецкого свидетельствует она, ибо свой рассказ он вел во всяком случае не на немецком, языке. За всем тем факт налицо: рассказ его слушали все вместе, стало быть, это был один рассказ. Не его вина, если он разошелся затем в сотне вариантов. Удивляются, что через 20 минут Имшенецкий уже уехал домой. Но и это неверно. Он не уехал, а его увезли. Промокший до костей, весь в лихорадке, растерянный и убитый -такой человек, как малый ребенок, естественно, был во власти других. Шульгина попросила мужа "посадить" его на извозчика и увезти. Тот так и сделал. По дороге Имшенецкий был уже совсем болен. Когда его привезли домой, с ним сделался истерический припадок, о котором нам свидетельствовали Кузнецова, Гаудин. Кулаков и, наконец, доктор Тривиус. Поверенный гражданского истца патетически восклицал здесь: "И он не бросился вновь в глубину, как бросается мать в пожарище, чтобы спасти любимое дитя!". Да мать... мать бросилась бы в глубину и там погибла бы. Великое слово - мать!.. Но здесь оно совершенно не у места. Простой, заурядный смертный, только не преступник (я это лишь доказываю) Имшенецкий, сам только что вытащенный из воды, мог не броситься. Не бросились бы на его месте сотни и тысячи в равной мере "любящих" мужей. Да и куда было бросаться? Зачем? Если бы чудовище, поглотившее жертву, было бы еще доступно борьбе, если бы была видна определенная цель, определенное место, тогда другое дело бездействие было бы преступно, оно бы уличало. Но здесь, какими средствами можно было бороться? Всюду кругом одно и то же: темная масса воды, холодные волны и полная неизвестность. Броситься можно было только ради одного чтобы вместе погибнуть. Это было бы, пожалуй, геройство, но отсутствие его не равносильно преступлению. Ночь, которую провел Имшенецкий дома в бреду, несмотря на уверения доктора Тривиуса, несмотря на заключение экспертов, прокурор хотел бы обратить также в улику против обвиняемого. Он подозревает симуляцию, хотя Имшенецкий не бредил своею невиновностью, а лишь был в забытьи и по временам что-то неопределенное кричал. Когда дали знать отцу Серебряковой о смерти дочери, он ночью же приехал на квартиру Имшенецкого. Застал он зятя в постели, в бреду. Серебрякову этот припадок показался неестественным: не было ни воплей, ни зубовного скрежета, он только кричал скоро, скоро, как на балалайке: "Маня, Маня, Маня!" Я очень рад этому непосредственному наблюдению Серебрякова. Болезненные душевные проявления весьма часто производят лишь смехотворное и комическое впечатление на натуры грубые, неразвитые, какова натура Серебрякова. Одним своим словом "балалайка" Серебряков открыл экспертам действительную наличность того болезненного явления, недоумевающим свидетелем которого он был. Серебрякову простительна подобная "психология"; но непростительно прокурору, что он эту "балалайку" серьезно оценивает с точки зрения невежественного наблюдения, а не с точки зрения науки и заключения экспертов. К той же группе "психологического" свойства следует отнести и указание Серебрякова на "странность" поведения Имшенецкого у трупа утопленницы, когда труп был разыскан и доставлен для медицинского осмотра в присутствии судебного следователя. Имшенецкий не рыдал, не плакал, не убивался, но сохранял какое-то "безучастное" спокойствие. Не надо забывать, что в это время он был уже заподозрен в убийстве своей жены, что на него смотрели десятки пытливых и враждебных глаз, что это была своего рода пытка, которой его подвергли. Однако же, по отзыву судебного следователя Петровского, допрошенного нами в качестве свидетеля, поведение Имшенецкого ему не показалось ни в каком отношении подозрительным. Он имел вид очень утомленного и очень убитого человека. Труп, благодаря стоявшему жаркому дню, издавал запах разложения, лицо покойной вздулось, посинело. Все, и физические, и нравственные условия были таковы, что если бы он даже вовсе лишился чувств, то и это было бы вполне естественно. У человека только хватило сил, чтобы удержаться от полного обморока, но душа его, естественно, была погружена уже в состояние, близкое к обморочному. Этим последним указанием я вправе закончить разбор улик, непосредственно касающихся самого события и обстоятельств, близко к нему прилегающих. Мне предстоит теперь остановиться на явлениях иного порядка, которые ставятся в связь с его "преступным намерением". Улики эти: духовное завещание, совершенное покойной в пользу Имшенецкого, нежелание его уступить добровольно наследство Серебрякову и, наконец, сокрытие важной улики: разорвание какого-то письма в присутствии судебного следователя. Относительно всех этих весьма серьезных, с первого взгляда, обстоятельств должен сказать одно: если Имшенецкий убил свою жену они имеют громадное усугубляющее его вину значение; если же он ее не убивал они не имеют для дела ровно никакого значения. Ими самая виновность его отнюдь не устанавливается. Покойная, страдавшая во время беременности разными болезненными припадками, могла, естественно, подумать о том, чтобы имущество, в случае ее смерти бездетной, не перешло обратно отцу, которого она и не любила и не уважала. Завещая все любимому мужу, она отдавалась естественному побуждению каждой любящей женщины: сделать счастливым того, кого любишь. Завещание делалось не таясь, у нотариуса, по инициативе самой Марии Ивановны, как удостоверяет свидетель Кулаков. Каждая беременность, каждые роды могут кончиться, и нередко кончаются, смертью, и распоряжение об имуществе естественная и желательная вещь. В обществах, в которых более чем у нас развиты гражданственность и личная инициатива, не боятся на другой же день после свадьбы пригласить нотариуса, распорядиться имуществом на случай смерти и жизни и забыть об этом. В завещании своем покойная отказала не только наличное имущество, но и родовое, которое могло ей достаться только после смерти отца. Это не было, стало быть, спешное, так сказать, срочное завещание ввиду близкой кончины, а завещание, которое вообще давало ей право сказать мужу: "После меня все твое!" Если после смерти Марии Ивановны так скоро возник вопрос о судьбе ее имущества, то виной этому только Серебряков. В своей грубости он дошел до того, что в доме поставил сыщиков и хотел на второй же день выжить зятя из дому, требуя немедленного возврата всего имущества. Откажись Имшенецкий поспешно от наследства, это ему поставили бы опять в улику. Завещание налицо (оно нотариальное, а не домашнее), его скрыть нельзя: отказался, значит струсил. -совесть не чиста! Что касается до улики, упомянутой выше, разорвание письма во время обыска, то едва ли о ней стоит говорить серьезно. Имшенецкий выхватил и пытался разорвать письмо по крайнему легкомыслию уже после того, когда следователь вполне прочел его. По счастью, содержание его вполне памятно судебному следователю Петровскому. В письме Ковы-линой от 3 марта трактовалось "о любви" вообще, о ее непрочности, были укоры и Имшенецкому "в измене". Ничего криминального оно не содержало. Подобные письма с отзвуками старой любви найдутся в любом письменном столе новобрачного. К тому же надо заметить, что обыск был 10 июня, а Имшенецкий уже знал. что по жалобе Серебрякова начато против него уголовное дело. Если бы он считал отобранное письмо "уликой", он имел бы ровно десять дней на то, чтобы уничтожить его. Письмо Ковылиной он разорвал на глазах следователя, потому что "не хотел впутывать в дело молодую девушку". Смысл письма восстановлен вполне и по обрывкам и со слов Петровского. Перед подписью сохранилась буква "п" и место для одного только слова "прощай". Очевидно, это было последнее письмо Ковылиной. Изорвав письмо, Имшенецкий не только не "уничтожил" улику, как полагает прокурор, а, наоборот, "создал" улику из пустяка, из вздора, из ничего. Все подобные призрачные улики, весь этот обвинительный мираж, дающий с первого взгляда значительный оптический эффект, в сущности рассчитаны только на обман зрения. Ему суждено безвозвратно рассеяться, как только мы глубже изучим и пристальнее вглядимся в характеры действующих лиц и их взаимные отношения. Постараемся прежде всего изобразить Имшенецкого, изобразить без прикрас, без увлечений и, главное, в настоящий его рост, не взгромождая его на ходули титанических замыслов и побуждений, как это пытались сделать обвинители. Нельзя не констатировать прежде всего, что, по общему отзыву родных, товарищей и ближайшего его начальника, В.М. Имшенецкий отличный сын, брат, товарищ и служака. Но рядом с этими положительными сторонами его характера, при внимательном изучении его личности, в нем открывается такая нравственная дряблость, такая... (обращаясь к подсудимому) да простится мне эта горькая правда, вдвойне горькая для вас в эти тяжелые минуты! неустойчивость в принципах, которая может быть объяснена только неряшливостью воспитания той цыганского склада семьи, в которой он вырос и воспитался. Прекрасные, возвышенные, но мимолетные побуждения уживаются в нем сплошь и рядом с мелочным резонерством, с будничными, шаблонными пожеланиями и стремлениями. Сидеть в самой прозаической житейской грязи и при этом искренно мнить себя идеально чистым и нравственно изящным для него дело обычное. Возьмем для примера хотя бы случайные его отношения к некоей провинциальной актрисе. Разве не характерно прочтенное здесь письмо таинственной Элли, которую он три Года назад просвещал в Минске. Эту давным-давно искусившуюся в тревогах жизни особу он не в шутку мнил обратить к "высшим целям", говорил ей о разумном труде, о нравственном саморазвитии, приглашал бросить подмостки и оперетку. А между тем у этой особы давно уже выработалась своя собственная своеобразная мораль: с одним она живет "из уважения", с другим "ради средств", а Владимира Михайловича она приглашала разделить интимно остающиеся за всем тем немногие часы досуга. Как видно из переписки, Имшенецкий сначала негодовал, укорял ее, но это нисколько не помешало ему поехать в Минск и, мирясь со всем, весело провести там время. В Петербурге он просвещает девиц, не твердых в орфографии, и те без ума от него. К числу подобных романов следует отнести и его роман с Ковылиной. Никакой "пылкой страсти", никакого "огнедышащего вулкана" из себя не представлял, да и не мог по самому существу своей мягкой натуры представить Владимир Михайлович. К тому времени, когда, по совету родных и благоразумного начальника, он "посватался" к Марии Ивановне, в расчете зажить, наконец, сытой, обеспеченной жизнью, его роман с Ковылиной угасал сам собой. Это видно из писем, в которых он и сознается и оправдывается, уверяя, впрочем, что все еще любит ее. Фраза, цитированная прокурором: "Может быть, мне придется жениться на девушке, которую я не люблю" и т.д., понимается односторонне. Кто же, женясь, говорит предмету своей прежней страсти, что женится по любви? Обыкновенно ссылаются на "обстоятельства", на "желание родных" и т.п. Это самое обычное, стереотипное "оправдание". Ему менее всего верит тот, кто пускает его в ход. Говорят о вопле истерзанной души, выразившемся в отказе Имшенецкого Ковылиной: "Лена! прости, не кляни! рука дрожит, сердце трепещет" и т.д. Однако же душевные страдания не помешали убитому душой поручику набросать весь этот вопль сперва начерно (черновик найден у Имшенецкого при обыске) на тот, очевидно, конец, чтобы "набело" вышло совсем "естественно" и "неотразимо". Роман его с Ковылиной (также девицей купеческого звания) расстроился оттого, что отец ее, нажившийся было поставкой сапог во время войны, потерял затем состояние на спекуляции домами и не мог дать никакого приданого. Банальное отступление было прикрыто чувствительными и благородными словами. На семью Серебрякова обратили внимание Владимира Михайловича домашние и прежде всего его отец, который был должен некоторую сумму Серебрякову и вел с ним какие-то "дела". Не питая никакой любви к Марии Ивановне, Имшенецкий очень скоро порешил "сделать партию" и тотчас же сделать небольшой заем у будущего тестя под вексель. После грубой выходки Серебрякова, требовавшего немедленной уплаты по векселям, Имшенецкий не только не порвал окончательно со своей новой невестой, но, напротив, охотнее прежнего стал добиваться супружества с Марией Ивановной. Та писала ему жалобные письма, винила во всем отца, выражала много искренней любви. Письма ее дышат искренностью, хотя в них немало свойственных ее среде и воспитанию жестоких слов: "сердце раздирается", "места себе не нахожу", "руки на себя наложу" и пр. Сперва он "пренебрегал" всем этим, хотел даже платить оскорблением, предоставлял место брату, он, мол, такой, что "может", а я-де не могу жениться. Но кончилось все это весьма благополучно. Она любила только его одного, она мучилась, она страдала, и он, подняв ее с колен, повел к алтарю. Перед стариками Ковылиными он необычайно малодушничал. Он скрывал все до последней минуты, не сказал всей правды, вероятно, и самой Елене Ковылиной. Этим я объясняю ее укорительное письмо от 3 марта, полученное Имшенецким уже после свадьбы. Но на основании всего, что известно нам о домашней жизни молодых супругов Имшенецких, я уверен, что через неделю он уже смаковал свое новое хозяйничанье, свой халат, свои туфли и все то мещанское благополучие, которое своим изобилием окружало его. Не будь несчастного случая, передо мною рисовался бы уже Имшенецкий, округлившийся и разбогатевший, довольный своим семейным положением, играющий на рояле и, пожалуй, уже не одним пальцем. Во имя художественной, если не простой житейской правды, я приглашаю моих противников умерить краски, понизить пафос, из опасения бульварного романа, далекого от жизни и действительности. Демонические замыслы, титанические страсти не по росту и не по плечу Имшенецкому! Сам прокурор не мог не признать его личность неустойчивой, легко поддающейся чужому влиянию. Если бы еще личность женщины могла овладеть и руководить им... Но такова ли личность Елены Ивановны Ковылиной? После катастрофы, очутившись нежданно в положении трагического героя, обвиняемый в тяжком преступлении, всеми оставленный, да вдобавок еще узнавший грустную предбрачную повесть своей Мани, он случайно опять встречает Ковылину, она протягивает ему руку, она его жалеет и он снова тает, снова готов "принадлежать" ей. Как школьник, он назначает ей свидание "на Литейной", пишет "о любви вообще", о том, что "литература", в скобках "романы", основаны на любви, и надеется, что теперь, когда он так несчастлив, он в ней найдет "все или почти все, что только душа его жаждет". И это убийца, пишущий своей "соучастнице", особе, которая, по выражению его же письма, "фактически" ему еще не принадлежала! Я допускаю преступление ради беззаветной любви и неутолимой страсти. Но в подобных обстоятельствах не сочиняют гимназических посланий на тему "о любви вообще", а пишут и говорят коротко и прямо: "Свершилось, я перешагнул через этот ужас, возьми я твой!". Нет, господа судьи, Имшенецкий не титан-преступник, перешагнувший спокойно через подобный "ужас". Он не более, как жалкая, беспомощная игрушка "печального сцепления грустных обстоятельств", и к этой последней роли как нельзя более подходит его безвольная и дряблая натура. Относительно же подразумеваемого обвинителями влияния на него личности Ковылиной, можно ли серьезно об этом говорить? Вы сами видели и слышали ее здесь. Каково могло быть это влияние? Каково ее развитие? На основании самого поверхностного анализа личности этой простоватой, хотя, быть может, и способной быть весьма преданной любимому человеку девушки, на основании того, какой она представляется из ее же интимной переписки с Имшенецким, мы вправе просить вас, судьи, даже как-нибудь случайно, по ошибке, не смешать девицы Елены Ковылиной с леди Макбет. Совершенно особняком стоит в настоящем деле эпизод щекотливого свойства. Мы исследовали его на судебном следствии при закрытых дверях. О нем я должен сказать несколько слов. Теперь уже для всех очевидно и бесспорно, что покойная Имшенецкая вышла замуж не "невинной" девушкой. У нее был до брака ребенок. В девичьем ее прошлом оказалось пятно, которое, если бы о нем знал Имшенецкий ранее, способно было внести в отношения молодых супругов и много осложнений и много затаенной вражды. Одного этого факта было бы достаточно, чтобы зародить в вас, судьях, предположение: не здесь ли разгадка печальной драмы, не здесь ли настоящий мотив преступления? Женитьба на нелюбимой девушке тягостна и без того, а тут еще она сопровождалась обидным для чести и супружеского достоинства разоблачением после брака. Это уже пытка. Скорее, нежели голая корысть, подобный глубокий мотив мог вызвать ужасное преступление. К счастью, однако, для Имшенецкого, он ничего не знал о печальном прошлом своей, внушавшей ему всегда только жалость, хотя и нелюбимой Мани. Об этом мы имеем неопровержимые свидетельства от Кулакова, Майзеля, Никандровой и, наконец, самого Серебрякова. Впервые из протокола вскрытия трупа покойной жены своей и заключения экспертов Имшенецкий узнал, что был не первым, кому принадлежала его жена. Это открытие потрясающим образом подействовало на него. Оно способствовало много и тому, что тут же разом, у едва погребенного после вскрытия трупа жены, воскресли и вспыхнули в нем все его воспоминания о чистой и девственной его привязанности к Елене Ковылиной, против которой он поступил так вероломно. Его, естественно, потянуло именно к ней с новой, неудержимой силой. Были намеки со стороны обвинителей, намеки, впрочем, скорее фривольного, нежели доказательного значения: "Как же это так?... видавший виды офицер, не мальчик. Первая ночь... и такое странное ослепление?". Акушеры и судебные врачи должны были при закрытых дверях высказать свое заключение и по этому вопросу. Я не стану воспроизводить его здесь во всех интимных подробностях, напомню вам только решающий их вывод. Этот вывод таков: и очень доблестный и храбрый офицер может оказаться большим простаком перед маленькими женскими хитростями... Первая брачная ночь нередко служит тому самым наглядным доказательством. Итак, господа судьи, на основании тщательного, кропотливого исследования самого факта падения в воду покойной, я вправе был утверждать, что убийство не доказано. Теперь я вправе утверждать, что не доказан и злой умысел со стороны Имшенецкого, а это подтверждается исследованием самой его личности и тех условий его новой, семейной жизни, которые ставились ему в улику. При таких данных обвинение, предъявляемое к нему, обвинение в предумышленном убийстве жены, грозящее ему каторжными работами без срока, голословно и не доказано. Это понимает, очевидно, и прокурор. Настаивая на двух-трех сомнительных свидетельских показаниях, он ссылается затем лишь на свое "личное внутреннее убеждение". Этот прием столь же мало соответствует задаче обвинения, как если бы защита стала клясться и божиться перед вами, удостоверяя божбою невинность своего клиента. Сознает это и поверенный гражданского истца, так долго и так красноречиво обещавший нам доказать обвинение, что, наконец, сам он, да и все мы на минуту готовы были поверить, что он сдержит свое обещание. Но на поверку весь обвинительный силлогизм его свелся к следующей простейшей, мало убедительной, формуле: "чем хуже, тем лучше!". Нет доказательств и не надо! Будь очевидцы даже того, что он не столкнул жены, а она упала сама, тем виновнее Имшенецкий, тем искуснее обставлено им преступление! Поистине, ужасная постановка обвинения... ужасная, впрочем, лишь в том случае, если бы вы захотели принять ее. Но вы ее не примете! Ваша судейская мудрость и опытность подскажут вам, в какой мере мало пригодна подобная формула вины Имшенецкого, в какой мере она опасна, в какой мере она, наконец, недостойна великого дела правосудия! Но кто яснее всех сознавал несостоятельность обвинения - это сам Серебряков. Серебряков, возбудивший дело и приложивший все старания, чтобы обставить его "по-своему", обставить надежно. Из уважения к слову "человек", к звуку "отец" я верю, я хочу верить, что мотивы, руководившие им, были не исключительно корыстного свойства (желание заставить Имшенецкого отказаться от завещанного ему покойной имущества). Я готов допустить, что он желает только "отомстить", но к каким ужасным приемам он прибегает?! Даже в отдаленную и мрачную эпоху кровной мести приемы эти показались бы возмутительными. Он на основании заведомо ложных данных хотел создать осуждение Имшенецкого, хотел ввести правосудие в заблуждение. Всю свою семью, дрожащую при виде его могучего кулака, всех своих "молодцов" и нескольких наемных лжесвидетелей вроде знаменитого, достаточно памятного вам свидетеля Виноградова, он привел сюда, в суд для подкрепления созданного его мрачным воображением обвинения. Во время судебного следствия я уже имел случай отметить и констатировать ряд отдельных, якобы изобличающих Имшенецкого эпизодов, созданных Серебряковым на основании заведомо ложных данных. Теперь я лишь бегло напомню их вам. Сами обвинители, которым Серебряков в своем беззастенчивом усердии оказывал поистине медвежьи услуги, не решались ссылаться на эти эпизоды. Серебряков, а с его слов и домашние его (отношения которых к главе семьи достаточно характеризуются письмом младшей дочери Александры к покойной Имшенецкой. из которого мы узнаем, что старуху-жену истязал, а взрослого сына своего скупостью и самодурством довел до идиотизма) пытались утверждать, что в церкви, во время венчания Имшенецкого, Ковылина будто бы подходила к жениху, делала ему упреки, так что Имшенецкому сделалось дурно, и т. д. Весь этот драматический эпизод оказался просто измышленным. Григоров, бывший в качестве посаженного отца, и еще множество лиц, присутствовавших при венчании, удостоверили, что ничего подобного не было. Имшенецкий, как удостоверил нам доктор Коган, в день свадьбы был действительно болен, поутру у него был жар, но это не помешало венчанию, и в церкви ему не делалось дурно. Второй эпизод, идущий из того же источника, касается будто бы попыток покойной произвести по настоянию мужа выкидыш. Для этого якобы она ходила в баню, принимала капли и т.п. Это обстоятельство совершенно опровергнуто показаниями Кулакова, акушерки Никандровой и фармацевтическим исследованием капель, которые принимались покойной. В баню, как это выяснено следствием, покойная приходила исключительно для того, чтобы принимать тепловатые ванны, что по отзыву эксперта-акушера представлялось по ее состоянию полезным, а капли давались ей для возбуждения аппетита и состояли из настойки безвредных трав на винном спирте. Третье обстоятельство воспроизводилось здесь в следующем виде. Сын Ивана Серебрякова, Василий (тот самый забитый и испитой субъект, с трясущимися руками, который давал здесь с трудом свой показания), будто бы слышал от Кулакова, что покойная "трижды" в этот вечер отказывалась ехать на лодке ("словно предчувствовала, бедная!", пояснял Серебряков), но муж (у которого уже, очевидно, созрел адский замысел) все-таки "принудил" ее сесть в лодку.
И судебных ораторов дореволюционной России. С 1913 г. председатель Петербургского совета присяжных поверенных.
| Николай Платонович Карабчевский | |
|---|---|
| Дата рождения | 29 ноября (1851-11-29 ) |
| Место рождения | военное поселение под Николаевом Херсонской губернии |
| Дата смерти | 22 ноября (1925-11-22 ) (73 года) |
| Место смерти | Рим |
| Род деятельности | адвокат |
Биография
Родился в дворянской семье Платона Михайловича Карабчевского (1811-1854), командовавшего в то время уланским его высочества герцога Нассауского полком ; дедом отца был пленный турок Карапчи. Мать Любовь Петровна была дочерью Петра Григорьевича Богдановича (1763-1834), который служил обер-штер-кригс-комиссаром Черноморского флота и владел богатым селом Старая Богдановка . Двоюродный брат - композитор Николай Аркас .
В 1868 окончил Николаевскую реальную гимназию с серебряной медалью. В 1869 г. поступил на естественный факультет Санкт-Петербургского университета и в том же году провёл три недели под арестом за участие в студенческих волнениях; с той поры до 1905 г. состоял под негласным надзором полиции . В студенческом театре не раз исполнял главные роли и впоследствии появлялся на сцене в бенефисах известных актёров.
С 1877 - помощник присяжного поверенного в политическом деле, известном как «процесс 193-х », на котором защищал будущую видную революционерку Е. К. Брешко-Брешковскую . С 13 декабря 1879 г. состоял присяжным поверенным округа Петербургской судебной палаты . Несколько лет был членом совета присяжных поверенных.
В 1898 г. участвовал в создании газеты «Право», которая издавалась до октябрьской революции; также редактировал журнал «Юрист». Учредитель благотворительного фонда для молодых адвокатов (1904). Один из создателей Всероссийского союза адвокатов (1905). Во время Первой мировой войны руководил комиссией по расследованию германских зверств.
Адвокатская деятельность
В 1921 году в Берлине Карабчевский издал мемуарную книгу «Что глаза мои видели». Первая часть книги - воспоминания детства (1850-е годы), прошедшего в Николаеве , живое описание жизни провинциальной дворянской среды глазами ребенка. Вторая часть посвящена преимущественно периоду 1905-1918 годов; хорошее личное знакомство Карабчевского с юридическими и думскими деятелями, с деятелями Временного правительства придает воспоминаниям историческую ценность.
Примечания
- , с. 43.
- , с. 150.
- «Однажды Карабчевский в дружеской беседе со мною сказал: - Вот вы спрашиваете, почему мне особенно удаются „речи“ в делах об убийствах? Что же, я этого не скрываю. Но этим не бравирую и неохотно об этом говорю… Когда я был студентом, я безумно полюбил одну женщину… Любовь была тяжелая, надрывная. Вспоминать о ней до сих пор мучительно. Измучила она меня… Кончилось тем, что я убил ее, убил, безумно любя… Меня не судили… Была экспертиза. Признали, что я действовал в состоянии невменяемости. Я этого не добивался, и не я поставил вопрос об этом. Мне было тогда все равно…» .
- А. В. Кузнецов. Суд над Ольгой Палем, обвиняемой в убийстве любовника, 1895 (обер-прокурор Сената) (неопр.) . Не так . Эхо Москвы (2 октября 2019).